14 марта 2007 г.
Orientation lacanienne III, 9.
Jacques-Alain Miller
Neuvième séance du Cours
(mercredi 14 mars 2007)
IX
Je cherche. Je cherche parce que je ne trouve pas une porte d’entrée dans le tout dernier enseignement de Lacan.Я ищу. Я ищу, потому что не нахожу входной двери в самое последнее учение Лакана.
Je ne trouve pas ou j’en trouve trop. C’est un labyrinthe à beaucoup d’entrées et laquelle mène au Minotaure pour le combat avec ce avec quoi lui-même se démontre aux prises et qui lui inspire des propositions qui apparaissent - si on raisonne avec la logique commune dont on dispose et même si elle est la logique de Lacan, du Lacan précédent - elles apparaissent, ces propositions, contradictoires ?
Я не нахожу или нахожу слишком много. Это лабиринт с множеством входов, и какой-то из них ведёт к Минотавру, для борьбы с тем, с чем он сам (Лакан), оказывается схваченным, и что вдохновляет его на пропозиции, которые появляются — если рассуждать в рамках обыденной логики, которой мы располагаем, и даже если это логика Лакана, прежнего Лакана - кажутся ли эти пропозиции противоречивыми?
Et donc, ce que j’arrive à apporter ici, c’est ce qui reste une fois que j’ai éliminé beaucoup de tentatives.
Итак, то, что я могу здесь привнести — это то, что остается после того, как я исключил множество попыток.
Ce qui a inspiré Lacan dans son tout dernier enseignement, ce n’est pas Freud. Le plus souvent il le dénigre, pas toujours, mais le plus souvent.
То, что вдохновляло Лакана в его самом последнем учении — это не Фрейд. Чаще всего он его принижает, не всегда, но чаще всего.
Ce qui a inspiré Lacan dans son dernier enseignement, c’est bien plutôt James Joyce. Non pas la théorie, s’il y en a une, de James Joyce, mais bien sa pratique de l’écriture.
То, что вдохновляло Лакана в его последнем учении — это скорее уж Джеймс Джойс. Не теория Джойса, — если таковая вообще имеется, — а именно его практика письма.
Joyce l’a aussi aspiré, et jusqu’au pastiche, dans lequel Lacan s’est laissé glisser avec une certaine verve. Vous en avez le témoignage au début de la version écrite qu’il a donnée de sa conférence précédent son Séminaire XXIII, conférence qui figure comme le premier annexe du tome paru du Séminaire Le sinthome.
Джойс тоже его втянул (aspiré), и вплоть до пастиша, в который Лакан позволи себя вктянуть с некоторым воодушелением. Вы имеете тому свидетельство — в начале письменной версии, которую он дал в своем докладе, предшествующем Семинару XXIII, докладу, который фигурирует в качестве первого приложения к опубликованному тому Семинара Синтом.
Joyce a aspiré Lacan et l’a comme réveillé de son sommeil dogmatique, selon un syntagme fameux, en tant que — c’est ce que Lacan a formulé — en tant qu’il incarnerait le symptôme.
Джойс втянул Лакана и как бы пробудил его от догматического сна, согласно известной фразе, поскольку — как сам Лакан это сформулировал — поскольку он воплощал симптом.
L’incarnation, c’est dans le mot une affaire de corps, qui se trouve déplacée sur le nom propre. Et le nom propre est aussi, dans le tout dernier enseignement de Lacan une catégorie, une partie du discours privilégiée, dans la mesure où ce serait le signifiant à quoi correspondrait précisément Un-corps. La consistance de l’Un-corps.
Воплощение, L’incarnation — это, как следует из самого слова, дело тела, которое оказывается перенесенным на имя собственное. [прим. ред.: фр. incarnation образовано от лат. caro, carnis — плоть, «тело»: in-carn-ation = «делание плотью». В русском аналогичная удача: воплощение ← «в-плоть» → тоже прямо указывает на тело]. А имя собственное — тоже, в самом последнем учении Лакана — категория, привилегированная часть дискурса, поскольку оно выступает как означающее, которому как раз соответствует Один-Тело, Un-corps. Консистентность Один-Тела.
Comme vous le savez — et cela figure sur la couverture de ce Séminaire XXIII — il a donné au mot de symptôme une orthographe nouvelle. Et sans doute dans le cours de ses leçons fait-il entendre à l’occasion le vieux symptôme à la place de ce signifiant nouveau, nouveau dans son usage, dans l’usage qu’il en fait mais ancien dans la langue, désuet dans la langue ― le sinthome.
Как вы знаете — и это указано на обложке этого Семинара XXIII — он дал слову симптом новую орфографию. И наверняка в ходе своих лекций он время от времени дает слышать и старое (слово) симптом вместо этого нового означающего — нового в его употреблении, в употреблении, которое он ему придает, но старого в языке, архаичного в языке — синтом, le sinthome.
Cette nouvelle orthographe signale en fait une définition différente du symptôme et même une définition toute autre, qui demande de se déprendre de l’usage familier du terme.
Эта новая орфография на самом деле указывает на иное определение симптома — даже, совершенно другое определение, требующую отделаться от привычного употребления этого термина.
Le symptôme, dans son acception au sein du système de Lacan, c’est une formation de l’inconscient, c’est-à-dire que c’est à proprement parlé une partie du discours de l’Autre, placée dans une certaine dit-mension, comme Lacan devait écrire plus tard le terme.
Симптом, в его понимании внутри лакановской системы, — это образование бессознательного, то есть, строго говоря, часть дискурса Другого, размещенная в определённой сказ-мерении, dit-mension, как Лакан впоследствии должен был написать этот термин.
Je le réécris. Dans une certaine dit-mension, par quoi il faut entendre une
dit - mension
mension du dit
mension - avec un s - qui demeure du dit.
Я это переписываю. В некотором сказ- мерении, dit-mension, под чем следует слышать [прим.: dit = сказанное,, mension — от dimension → мéра, измерение]
dit - mension — сказ-мерение
mension du dit — мерение сказанного
mension — с буквой s — которая остаётся от сказанного (du dit).
Ce que Lacan a sorti, surprenant son auditoire jadis, par exemple dès son « Rapport de Rome » en 53 et plus précisément dans le développement qu’il a donné dans son Séminaire V des Formations de l’inconscient, le symptôme est articulé comme un langage, au même titre que l’inconscient, c’est-à-dire fracturé entre signifiant et signifié, sa mension, sa demeure pouvant être le corps ou la pensée.
То, что Лакан выдвинул, удивляя свою аудиторию уже тогда, например, уже в своей «Римской речи» в 53 году и, более точно — в развитии, которое он дал в своем Семинаре V — Образования бессознательного, — симптом артикулирован как язык, на том же основании, что и бессознательное, то есть расколот между означающим и означаемым; его mension, его обитель может быть телом или мыслью.
Il faut que je suppose ça connu, que je m’en tienne à ce rappel, sinon ce serait trop labyrinthique.
Надо, чтобы я предположил, что это известно, чтобы я ограничился этим напоминанием, иначе это было бы слишком лабиринтно.
Je me contente d’y opposer la définition du sinthome et d’abord par la négative. Le sinthome n’est pas une formation de l’inconscient. Le sinthome a avec l’inconscient un rapport bien plus complexe, en tout cas différent.
Я довольствуюсь тем, что противопоставляю определению синтома, и прежде всего через негативность. Синтом — это не образование бессознательного. У синтома гораздо более сложные отношения с бессознательным, и в любом случае — другие.
Pour donner l’idée de ce qui, là, oriente l’attention de Lacan, je me contenterai de le citer dans sa conférence initiale où on a le témoignage de ce qui au départ l’a aimanté dans cette affaire.
Чтобы дать представление о том, что именно в данном случае ориентирует внимание Лакана, я буду довольствоваться тем, что процитирую это из его первоначального доклада, где имеем свидетельство того, что изначально привлекло его к этому делу.
Le sinthome, dit-il ― dans une phrase qui a quelque chose qui pourrait paraître banal, en tout cas qui ne tire pas l’œil tout de suite quand on la lit ― le sinthome est ce qu’il y a de singulier dans chaque individu.
Синтом, — говорит он, — во фразе, которая имеет нечто, что могло бы показаться банальным, во всяком случае, не сразу бросающимся в глаза, когда ее читают, — синтом есть то, что есть сингулярного в каждом индивидууме.
Pour en faire quelque chose ou pour en rendre raison, et je m’aperçois que c’est là mon ambition folle, pour me satisfaire de ce que je peux dire de ce tout dernier enseignement.
Чтобы что-то с этим сделать или дать этому обоснование — а я замечаю, что в этом-то и моя безумная амбиция — чтобы удовлетвориться тем, что я могу сказать об этом самом последнем учении.
Mon ambition folle, ce serait d’arriver à me rendre raison de tout ce que Lacan a énoncé. De reconstituer point par point pourquoi on voit surgir telle formule après telle autre, alors que la lecture, même répétée, semble offrir un certain désordre.
Моя безумная амбиция — добиться того, чтобы разобраться для себя во всём, что высказал Лакан. Реконструировать пункт за пунктом, почему появляется та или иная формула после другой, тогда как чтение — даже повторное — кажется, предлагает некоторый беспорядок.
Faut-il renoncer à ce rendre raison, de tout ce qui est dans ce tout dernier enseignement énoncé ? Est-ce que c’est ce que ce tout dernier enseignement réclame ? Et qu’est-ce qu’il faudrait mettre alors à la place de ce rendre raison ?
Нужно ли отречься от того чтобы давать этому обоснование, всего того, что высказано (énoncé) в этом самом последнем учении? [Прим. ред.: renoncer и énoncer исторически восходят к одному латинскому корню (nuntiare — «возвещать, сообщать»), хотя в современном французском они не ощущаются как однокоренные. В русском аналогично слышится пара «высказываться» — «отречься»]. Требует ли этого самое последнее учение? И что тогда нужно было бы поставить на место этого “давать этому обоснование”?
Bon, pour l’instant, c’est déjà quelque chose de s’apercevoir qu’on procède ainsi. Je n’en suis pas à pouvoir y substituer une autre pratique, du texte qui reste.
Хорошо, на данный момент, это уже кое-что — заметить, что мы действуем именно так. Я пока не в состоянии заменить это здесь другой практикой (чтения) — текста, который остается.
Et donc si j’essaye de me rendre raison de cette définition du sinthome comme ce qu’il y a de singulier dans chaque individu, j’y oppose précisément le symptôme, dans sa première acception.
Итак, если я пытаюсь разобраться для себя с этим определением синтома — как того, что есть сингулярного в каждом индивиде, — я противопоставляю этому в точности симптом — в его первом допущении.
Le symptôme qui conserve, on peut alors l’apercevoir, toujours quelque chose de général, qui est porté à son comble dans ce que l’on appelle et ce dont on se fait une peine, le diagnostic. On se tient à deux ou trois tiroirs, à l’occasion quatre, avec l’autisme.
Симптом, который сохраняет — можно тогда это заметить — всегда нечто общее, что достигает своей вершины в том, что называют, и из-за чего переживают, в диагностике. Используют два или три ящичка, иногда четыре— с аутизмом.
Le sinthome nouvelle manière s’opposerait comme singulier à tout ce que le symptôme première acception comporte de généralités. Ça me paraît cohérent, précisément, avec ce que Lacan formulera à la fin de son Séminaire XXIV de L’une-bévue, à savoir que - formule à quoi il faut se faire - selon laquelle la névrose est affaire de relations sociales.
Синтом, по-новому, противопоставлялся бы, как сингулярное, всему тому, что симптом в своём первом значении содержит как общности. Это мне кажется согласованным как раз с тем, что Лакан сформулирует в конце своего Семинара XXIV — L’une-bévue / Обознанка [прим. пер.: образовано от нем. Unbewusst - бессознательное + фр. une bévue - оговорка, промах, просчет. На русском языке, здесь невозможно оттолкнуться от немецкого языка, но тогда предлагаем перевести французское une bévue как обознанку, сохранив отсылку к бессознательному, но без отрицательной приставки, против которой Лакан и возражал], а именно: формула, с которой надо приучить себя, согласно которой: невроз — это дело социальных отношений.
Là, en effet, on est dans cette définition, au niveau déjà du général.
Здесь, действительно, находимся в этом определении — уже на уровне общего.
Et, pour me rendre encore raison de la formule dont je suis parti — ce qu’il y a de singulier dans chaque individu, j’ajoute qu’apparemment, ce n’est pas le cas de l’inconscient. L’inconscient n’est pas ce qu’il y a de singulier dans chaque individu. Et c’est bien pour le faire saisir que Lacan l’a logé dans l’Autre, avec un grand A.
И — чтобы ещё раз разобраться для себя с формулой, с которой я начал — то, что имеется сингулярного в каждом индивиде — я добавлю, что, по-видимому, это не относится к бессознательному. Бессознательное не есть то, что имеется сингулярного в каждом индивиде. И именно, чтобы это дать уловить, Лакан поместил его в Другого, с большой буквы А.
Il loge l’inconscient dans l’Autre et au contraire, disons pour faire la symétrie, il loge le sinthome dans l’Un. Il définit même l’Un par le sinthome. Il en fait la consistance définitionnelle de l’Un, si je puis dire.
Он размещает бессознательное в Другого, и напротив — скажем, чтобы соблюсти симметрию — размещает синтом в Один, l’Un. Он даже определяет Один через синтом. Он делает его определяющей консистентностью Один, если можно так выразиться.
Et je repère ce qui me semble revenir dans ce tout dernier enseignement, l’opposition du sinthome et de l’inconscient.
1 - sinthome
2 - ics
И я отмечаю то, что, как мне кажется, возвращается в этом самом последнем учении — оппозицию между синтомом и бессознательным.
1 — синтом
2 — бсз
Disons que ce sinthome qui appartient à l’Un, c’est dans un temps second, au moins un temps logique, que l’inconscient vient se nouer au sinthome.
Скажем, что этот синтом, который принадлежит Один, — это во втором времени, по крайней мере, во времени логическом, — бессознательное приходит завязываться с синтомом.
Mais, il y a tout un registre où Lacan peut développer la nature du sinthome sans faire référence à l’inconscient. L’inconscient, si on peut dire, s’ajoute.
Но есть целый регистр, в котором Лакан может разворачивать природу синтома без всякой отсылки к бессознательному. Бессознательное — если можно так выразиться — просто добавляется.
C’est la pratique de Joyce qui lui en a donné l’idée, avec l’exemple, de telle sorte qu’on peut saisir, à partir de là, le sens de ce que Lacan amène au début du Séminaire XXIV, qui suit Le sinthome, on peut saisir qu’il s’y était déjà essayé.
Именно практика Джойса дала ему эту идею, — с примером; и тогда можно уловить, исходя из этого, смысл того, что Лакан выносит в начале Семинара XXIV, следующего за Синтомом, — можно уловить, что он уже пробовал это.
Il énonce en effet avec L’une-bévue : j’essaye d’introduire quelque chose qui va plus loin que l’inconscient.
Он, действительно, высказывает в L’une-bévue: я пытаюсь ввести нечто, что идёт дальше, чем бессознательное.
Mais, c’était déjà le cas avec le sinthome.
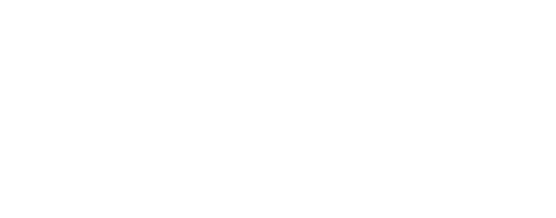
1 — синтом — Une-bévue/Обознанка ↓
2 — бсз
Disons que ce qu’il appelle Une-bévue, par assonance avec l’Unbewusst freudien, traduit par inconscient, l’Une-bévue s’inscrit au même temps logique déjà exploré avec le sinthome. Il me semble que cette succession, cette orientation, reste, dans ce tout dernier enseignement, constante et qu’elle répercute l’introduction de l’Un dans son antériorité à l’Autre.
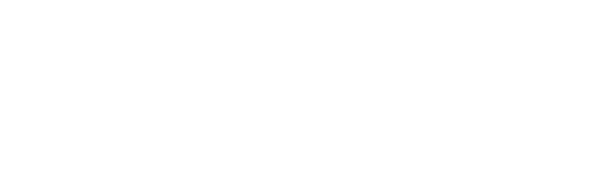
Один 1 — синтом — Une-bévue/Бессознанка ↓
Другой 2 — бсз
Cet Autre, Lacan ne l’a écrit avec une majuscule qu’à partir de son second Séminaire, mais il n’est pas excessif de dire que c’est son point de départ. Même s’il a attendu à un moment avant de faire pousser cette majuscule, le point de départ de son enseignement c’est bien l’inconscient comme discours de l’Autre et c’est aussi le principe de l’écriture de ses graphes, poussant à partir de l’Autre.
Этого Другого — Лакан начал писать с заглавной буквы только со второго Семинара, но не будет преувеличением сказать, что это — его отправная точка. Даже если он выжидал некоторое время, прежде чем заставить вырасти эту большую букву; отправной точкой его учения действительно было бессознательное как дискурс Другого, и это также и принцип записи его графов, прорастающих из Другого.
Dans son tout dernier enseignement, il y a ce mouvement de revenir en deçà, en deçà de l’Autre et du même coup l’obligation d’un nouveau lexique, une floraison de néologismes et encore j’en arrivai à me dire qu’il en manque encore, que par exemple on sent bien que le mot d’interprétation que Lacan conserve dans son tout dernier enseignement demande des guillemets et qu’il appellerait un néologisme parce que l’interprétation, elle est inter, elle suppose l’Autre et qu’il nous faudrait pouvoir la retranscrire dans un autre registre, celui de l’Un.
В его самом последнем учении есть движение возвращения по эту сторону, по эту сторону Другого, и тем самым — необходимость в новом лексиконе, расцвет неологизмов, и ещё я прихожу к тому, чтобы сказать себе, что их всё ещё не хватает, например, явно ощущается, что слово «интерпретация», которое Лакан сохраняет в своем самом последнем учении, требует кавычек, и что он бы и сам назвал неологизмом, потому что интерпретация, interprétation — она интер, inter, она предполагает Другого. А нам нужно было бы уметь пере(за)писать (retranscrire) её в ином регистре — регистре Один.
Après tout, c’est l’appel que Lacan fait retentir à la fin de son Séminaire de L’une-bévue, l’appel à un signifiant nouveau qu’il espère et qui ne lui vient pas.
В конце концов, именно этот призыв, который Лакан заставляет прозвучать в финале Семинара L’une-bévue — призыв к новому означающему, которого он надеется дождаться, и которое к нему не приходит.
De telle sorte que je crois que l’on peut valider dans le cadre du tout dernier enseignement de Lacan la définition qu’il donne de l’inconscient dans sa conférence initiale et qui rappelle son point de départ, de 1953 ― l’inconscient est situé dans l’Autre, porteur des signifiants, qui tire les ficelles de ce qu’on appelle imprudemment le sujet.
Таким образом, я полагаю, можно признать в кадре самого последнего учения Лакана, то определение, которое он даёт бессознательному, в своем первоначальном докладе — и который напоминает его отправную точку 1953 года: бессознательное расположено в Другом, в носителе означающих, который дёргает за ниточки того, что мы неосторожно называем субъектом.
C’est lui qui l’appelait ainsi, le sujet.
Это то, что он называл так — субъект.
Il me semble que cette définition est valable à condition de la situer comme il convient, au temps deux.
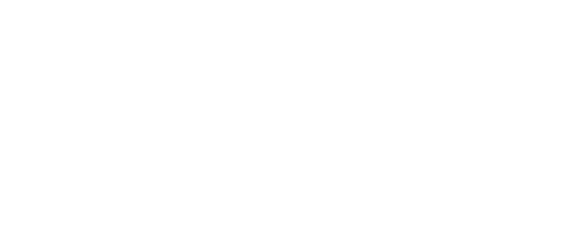
Один 1 – синтом – Une-bévue/Обознанка
Другой 2 – бсз
Cela veut dire que, en ce sens, l’inconscient, c’est une généralité et non une singularité. Je le cite, et ça me semble illustrer cette position de l’inconscient, cette position qui est décalée par rapport à celle qu’il expose dans l’article qui porte ce titre de « Position de l’inconscient » : nous croyons que nous disons ce que nous voulons. [Ça, ça se prête déjà aux commentaires].
Это означает, что — в этом смысле — бессознательное, это — общность (généralité), а не сингулярность. Я его цитирую, и это, мне кажется, иллюстрирует такую позицию бессознательного — позицию, которая смещена по отношению к той, которую он излагает в статье с заглавием «Положение бессознательного»: мы верим, что говорим то, что мы хотим. [Ну, это уже само по себе просится на комментарий].
Nous croyons à l’intention, nous croyons à nos intentions, bonnes ou mauvaises ça n’est pas la question, il y a croyance à l’intention.
Мы верим в интенцию (l’intention), мы верим в собственные интенции — хорошие или плохие, это не вопрос — имеется вера в интенцию.
Ça, c’est dit par Lacan dans sa conférence initiale mais on peut dire que tout le Séminaire de L’une-bévue roule sur cette affaire là, met en question précisément l’intention qui présiderait à l’usage du signifiant, et il dégage péniblement un registre non intentionnel.
Ну, это — сказано Лаканом в его первоначальном докладе, но можно сказать, что весь Семинар L’une-bévue катится (roule) по этому вопросу: он ставит под сомнение именно интенцию, которая якобы руководила употреблением означающего, и с трудом выделяет неинтенциональный регистр.
Un registre non intentionnel de ce que nous disons, de ce que dit dans l’expérience l’analysant, et il faut bien faire attention que si c’est non intentionnel, ça met en question l’interprétation même, ça en abolit la possibilité.
Неинтенциональный регистр того, что мы говорим, того, что говорит в опыте анализанта, и нужно, чтобы было уделено внимание, что если это неинтенционально, то это ставит под вопрос саму интерпретацию, упраздняет её возможность.
Parce que l’interprétation n’est pensable que sur le fond d’une intention. J’ajoute encore, pour commenter cette phrase, là encore qui pourrait paraître banale : nous croyons que nous disons ce que nous voulons.
Потому что интерпретация мыслима только на фоне интенции. Я добавлю ещё — комментируя эту фразу, которая могла бы показаться банальной: мы верим, что говорим то, что хотим.
Dans le cadre du tout dernier enseignement de Lacan, il n’y a rien de banal, il faut l’entendre raisonner. Qui serait l’instance des intentions ? Dans le freudisme c’est le moi. Et c’est ce moi qui aussi bien dans le Séminaire XXIII que dans le XXIV, ce moi, cet ego, devient problématique tout autant que le sujet du signifiant. Le moi de l’intention est aussi problématique que le sujet du signifiant.
В кадре самого последнего учения Лакана нет ничего банального — нужно слышать, как это резонирует (raisonner). Кто был бы инстанцией интенций? В фрейдизме — это я (moi). И именно это я (moi) — как в Семинаре XXIII, так и в XXIV, — это я (moi), это эго, становится столь же проблематичным, как и субъект означающего. Я (moi) интенции столь же проблематично, как и субъект означающего.
Nous croyons que nous disons ce que nous voulons mais c’est ce qu’ont voulu les autres. Et là nous sommes reportés de l’inconscient à ce que nous avons simplifié en l’appelant l’Autre. Ce qu’ont voulu les autres, plus particulièrement notre famille qui nous parle.
Мы верим, что говорим то, что хотим — но это то, чего хотели другие. И здесь мы переносимся от бессознательного к тому, что мы упростили, назвав это Другим. К тому, чего хотели другие — в особенности наша семья, которая нам говорит.
Ah ! Là nous avons une représentation commune, accessible, de l’Autre, qui est la famille de chacun. Cet agrégat tenu ensemble par la reproduction, au moins c’est son principe, que nous appelons notre famille.
А! Вот у нас есть общая репрезентация, доступная, — Другого, который есть семья каждого. Этот агрегат, удерживаемый вместе воспроизводством — по крайней мере, таков его принцип — мы и называем своей семьёй.
Et ceci qui est dit dans la conférence initiale de Lacan fait écho à tel développement qu’il donnera plus tard à la fin de son Séminaire de L’une-bévue, en notant que laissé à lui-même l’analysant parle d’affaires de famille quelle que soit sa culture, la culture où il a été élevé et quelle que soit la forme particulière qu’a pu prendre dans cette culture les relations de parenté.
И это, сказанное в первоначальном докладе Лакана, отзывается в том развитии, которое он даст позднее — в конце своего Семинара L’une-bévue, — отмечая, что, предоставленный самому себе, анализант говорит о семейных делах, какой бы ни была его культура, культура, в которой он был воспитан, и какой бы ни была особая форма, которую могли принять в этой культуре могли принять отношения родства.
C’est donc à inscrire, c’est ce que je propose, dans cette succession orientée de l’Un à l’Autre.
Это, следовательно, подлежит вписыванию — как я предлагаю — в эту ориентированную последовательность от Один (l’Un) к Другому (l’Autre).
C’est là que Lacan isole très précisément une transformation, la transformation qui se fait en parlant, et sans doute vaudrait-il mieux dire en étant parlé, par l’Autre, par les autres, par notre famille, cette transformation très précise qui s’énonce ainsi ― nous faisons des hasards qui nous poussent à un destin.
Именно здесь Лакан изолирует очень точно трансформацию — трансформацию, которая создается, говоря, и, наверняка было бы лучше сказать: будучи говоримыми, посредством Другого, посредством других, посредством нашей семьи — эту трансформацию, очень точную, которая высказывается таким образом: мы создаем случайности, которые подталкивают нас к судьбе.
Nous faisons, au fond, de la contingence nécessité, nécessité d’une signification qui passe à travers nous, qui nous transis et qui nous dessine une instance qui nous appellerai et qui serai le destin.
Мы создаем, в сущности, из случайного, la contingence — необходимое — необходимое значения, которое проходит сквозь нас, которое нас пронизывает и которое очерчивает нам инстанцию, которая звала бы нас — и которая была бы судьбой.
Et je mettrai, puisque je dispose de ce schéma élémentaire, je mettrai les hasards dans le même registre que celui de l’Une-bévue et le destin au compte de l’Autre.
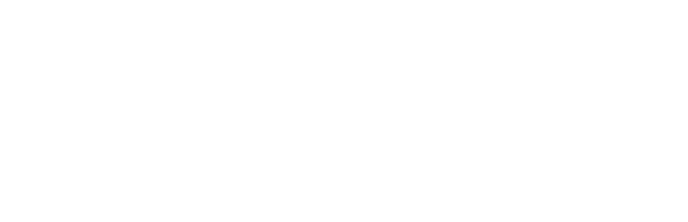
Один 1 - синтом - Une bévue/Обознанка случайности
Другой 2 – бсз судьба
Et c’est bien pourquoi dans le registre de l’Un, on met en question le destinataire. S’il y a un destinataire alors en effet, il y a un destin.
И именно поэтому в регистре Один ставится под вопрос адресат. Если имеется адресат, тогда, действительно, имеется и судьба.
Ce dans quoi Lacan chemine, c’est dans l’énoncé d’un symbolique sans destinataire. Ça n’arrive jamais à destination parce que ça n’arrive pas à destin et c’est bien pourquoi la notion de la fin de l’analyse elle-même est, dans ce tout dernier enseignement de Lacan, soumise à révision.
То,по чему продвигается Лакан, — это высказывание о символическом без адресата. Оно никогда не достигает назначения (адреса), потому что оно не достигает судьбы — и именно поэтому само понятие конца анализа, в этом самом последнем учении Лакана, подвергается пересмотру.
Je ne dis pas qu’elle est abolie. Il se tient, me semble-t-il, en deçà de cette abolition. Mais la fin de l’analyse demande à être repensée, si elle doit être située dans le registre de l’Un.
Я не говорю, что оно (окончание анализа) упразднено. Он удерживается, как мне кажется, по эту сторону этого упразднения. Но конец анализа нуждается в переосмыслении, если его следует помещать в регистр Один.
Alors précisément parce que l’inconscient est le discours des autres, de notre famille, de l’Autre, c’est précisément pourquoi l’inconscient est un principe de sympathie.
Именно потому, что бессознательное — это дискурс других, нашей семьи, Другого — именно поэтому бессознательное является принципом симпатии.
Ah je sais bien que dans le système de Lacan il n’y a pas de communication d’inconscient à inconscient. Mais il en va autrement dans le tout dernier enseignement.
Ах, я хорошо знаю, что в системе Лакана не имеется коммуникации от бессознательного к бессознательному. Но в самом последнем учении дело обстоит иначе.
Au contraire, l’inconscient apparaît comme un phénomène de sympathie et c’est bien pourquoi Lacan peut parler dès sa conférence initiale de quelque chose qui s’appelle émouvoir l’inconscient.
Напротив, бессознательное предстает как феномен симпатии — и именно поэтому Лакан уже в своем первоначальном докладе может говорить о чем-то, что называется растрогать бессознательное.
C’est peut-être pas autre chose que comprendre, à moins que ce soit précisément le contraire et que le comble de l’émotion de l’inconscient se soit de ne pas comprendre ; mais précisément ça revient au même.
Это, может быть, не что иное, как понимание, если только это — в точности — не наоборот, и вершиной эмоции бессознательного не является не понимать; но в точности это сводится к одному и тому же.
C’est là que, prend sa valeur de constater que Joyce n’émeut l’inconscient de personne, dans son Finnegans Wake. Donc ça n’est pas un rajout que fait Lacan quand il situe Joyce comme désabonné de l’inconscient. Dire que Joyce est désabonné de l’inconscient, c’est la même chose que de dire qu’il est l’incarnation du sinthome.
Именно здесь приобретает значение тот факт, что Джойс не взволнует бессознательное ни у кого — в своём Finnegans Wake. Так что это не есть добавление со стороны Лакана, когда он помещает Джойса как отписанного от бессознательного. Сказать, что Джойс отписан от бессознательного, — это та же самая вещь, что и сказать, что он — воплощение синтома.
Il est l’incarnation de ce qu’il y a de singulier dans chaque individu. Et c’est en l’occasion à lui si singulier que ça ne communique pas. C’est en ce sens que Joyce l’a inspiré : en tant qu’il donne, dit-il, l’appareil, l’essence, l’abstraction, du sinthome. Ça passe par une abolition du symbole et du symptôme au sens premier. Il y a ici un radical à chacun son sinthome qui s’écarte de toute sympathie, de toute liaison communicationnelle, de toute généralité, qui invite à saisir chacun comme un Un absolu, c’est-à-dire séparé.
Он — воплощение того, что в каждом индивидууме имеется сингулярного. И именно в силу его столь сингулярного, это не поддаётся коммуникации. В этом смысле Джойс вдохновил его: поскольку он, как говорит Лакан, даёт устройство, сущность, абстракцию синтома. Это проходит через упразднение символа и симптома в их первом значении. Здесь имеется радикальное: каждому — свой синтом, которое отходит от всякой симпатии, от всякой коммуникативной связи, от всякой общности — и побуждает схватывать каждого как абсолютное Один (Un absolu), то есть — как отделённого (сепарированного).
Ah, ça ! Ça c’est une discipline pour l’analyste, quand l’analyse se poursuit un petit peu et que ça devient, croit-on, la routine, que l’analyste, à l’occasion, devient ce qu’il y a de plus familier, au point qu’on y loge, dans la famille.
Ах, да! Это — дисциплина для аналитика, когда анализ продолжается некоторое время и, это становится — как думают — рутиной, аналитик, временами, становится тем, что имеется наиболее фамильярного, до такой степени, что его — туда — помещают, в семью.
Et puis d’emblée il y a ce qu’on appelle le transfert qui est bien fait pour installer la sympathie ou l’antipathie, mais enfin de toute façon la pathie (rires), c’est ça qui est raboté par cette perspective, qui prend la pratique de l’analyse à rebrousse-poil, qui l’a tond même plutôt et que on rétablit ainsi, dans ce tout dernier enseignement, ce qui était éteint de l’étrangeté, de la différence absolue de l’Un.
И кроме того, с самого начала имеется то, что зовётся переносом, который как раз и создан для того, чтобы установить симпатию (la sympathie) или антипатию (l’antipathie)— но в любом случае патию (pathie) (смех). [Прим. ред.: Выделение la pathie, патия производит эффект остроты: привычные sympathie и antipathie внезапно возвращаются к греч. πάθος («аффект, страдание») и по звучанию сближаются с pathologie. В русском соответствующие слова (симпатия, антипатия, апатия) практически полностью совпадают по форме и происхождению, но выделение корня патия исторически не отсылает к “патологии” и не воспринимаются как острота]. Именно это и срезается в данной перспективе, которая идёт против шерсти практики анализа, даже скорее — его остригает, таким образом в этом самом последнем учении восстанавливается то, что было погашено — чуждость, абсолютное различие Одного.
Alors, évidemment, dans ces conditions, ce que Joyce produit, c’est un texte inanalysable. Personne ne s’y est essayé, là on ne joue aux connexions de la psychanalyse, connexions psychanalyse et littérature qui relèvent d’une autre époque, celle où on se tenait dans le cadre d’un inconscient représentatif et intentionnel, c’est-à-dire au temps de ce que Lacan appelle, à peu près, les erreurs grossières de Freud.
Тогда, разумеется, в этих условиях то, что производит Джойс — это неанализабельный текст. Никто не пробовал за это взяться — здесь не играют в соединения с психоанализом, — соединения «психоанализ–литература», которые относятся к другой эпохе, к той, в которой держались в кадре репрезентативного и интенционального бессознательного, то есть — к той поре, которую Лакан называет, приблизительно, грубыми ошибками Фрейда.
On se demande, évidemment, s’il n’y a pas une certaine sympathie que Lacan éprouve pour Joyce, précisément dans l’aversion que celui-ci témoigne à l’endroit de la psychanalyse.
Можно, разумеется, задаться вопросом, нет ли некоторой симпатии, которую Лакан испытывает к Джойсу — именно в той неприязни, которую тот проявляет по отношению к психоанализу.
Et en tout cas il est clair que la psychanalyse fondée sur l’Autre, Lacan en a ras le bol, dans son tout dernier enseignement. Il avoue même et il n’est même pas très loin de Jung dans cet aveu, il en a un peu assez des histoires de famille qu’on lui raconte. Il est clair qu’il est décidé à écouter autre chose que l’Autre, que le discours de l’Autre. Il est plutôt aux prises avec le sinthome de l’Un qu’avec le discours de l’Autre.
И во всяком случае, совершенно ясно, что психоанализа, основанного на Другом, у Лакана по горло — в его самом последнем учении. Он даже признаётся — и в этом признании он не так уж далёк от Юнга — что ему уже несколько поднадоели семейные истории, которые ему рассказывают. Ясно, что он решительно настроен слушать нечто иное чем Другой, чем дискурс Другого. Он, скорее, имеет дело с синтомом Один, чем с дискурсом Другого.
On se demande si la sympathie de Lacan pour Joyce, pas du tout incompatible avec l’antipathie, on se demande même si cette sympathie ne va pas le rejoindre dans son rêve d’en finir avec la littérature, pour Joyce, et ce serait pour Lacan d’en finir avec la psychanalyse, de ne laisser derrière lui qu’un désastre.
Можно задаться вопросом — ведёт ли симпатия Лакана к Джойсу, отнюдь не несовместимая с антипатией, — можно даже задаться вопросом — ведет ли эта симпатия к тому, чтобы присоединиться к его мечте покончить с литературой — для Джойса, — а для Лакана это было бы — покончить с психоанализом, оставить после себя лишь крах.
Il y a de ça. On l’a soupçonné et il y a de ça sinon que ça a aussi une face positive et plus inaperçue parce qu’inédite, celle de déplacer la psychanalyse dans le registre de l’Un et de repenser sa pratique à partir de ce qu’a d’absolu le sinthome de l’Un.
Есть в этом что-то. Это подозревали, и есть в этом что-то — если не то, что у этого также имеется положительная сторона и более незамечаемая — потому что (небывалая: та, что смещает психоанализ в регистр Один и заставляет переосмыслить его практику, исходя из того, что синтом Один имеет абсолютного).
C’est sans doute, ce dernier enseignement, le contraire, l’envers du système de Lacan, un envers qui procède de l’Un tout seul et non pas de l’Autre.
Это, несомненно, самое последнее учение — противоположность, изнанка системы Лакана, изнанка, которая исходит из Один-сам-по-себе, l’Un tout seul, а не из Другого.
C’est bien parce que ça procède de l’Un tout seul que dès la première leçon de son Séminaire de L’une-bévue, il s’interroge sur l’identification. C’est-à-dire qu’il dessine, il esquisse, faut-il le comprendre, l’identité symptomale, de ce qu’on appelle avec imprudence le sujet et qu’il suggère que la psychanalyse pourrait être définie, je le dit dans le mot que j’ai employé, comme l’accès à l’identité symptomale, c’est-à-dire pas se contenter de dire ce qu’ont voulu les autres, ne pas se contenter d’être parlé par sa famille, mais accéder à la consistance absolument singulière du sinthome.
Именно потому, что это исходит из Один-сам-по-себе, с самой первой лекции своего Семинара L’une-bévue он задаётся вопросом об идентификации. То есть он очерчивает, он намечает — следует ли это понимать так? — симптомальную (прим. от symptomale = symptôme - симптом + суфф. прилогательного -ale) идентичность того, что мы с неосторожностью называем субъектом, и он предлагает, что психоанализ можно было бы определить — я сказал это в том слове, которое употребил — как доступ к симптомальной идентичности, то есть — не довольствоваться тем, чтобы говорить то, чего хотели другие, не довольствоваться тем, чтобы быть говоримым своей семьёй, а достичь абсолютно сингулярной консистентности синтома.
C’est la valeur, à mon sens, de la question que pose Lacan et de la réponse interrogative qu’il donne à sa question, pour dire avec quelle prudence il procède, ce n’est pas le seul cas, c’est ça qui est fatigant, c’est qu’on a des questions et comme réponses, on a encore une forme de questions.
Это — на мой взгляд — и есть ценность вопроса, который ставит Лакан, и той ответной формы-вопроса, которую он даёт на свой же вопрос — чтобы показать, с какой осторожностью он продвигается. И это не единственный случай — и вот что утомляет:: у нас есть вопросы, а в качестве ответов — ещё одна форма вопросов.
En quoi consiste ce repérage qu’est l’analyse, dit-il, est-ce que ça serait ou ne serait pas, s’identifier à son sinthome ?
В чём состоит эта наметка, которой является анализ, — спрашивает он, — было бы это, или не было бы это — идентифицироваться с собственным синтомом?
Ici, je donne comme valeur à s’identifier à son sinthome, c’est reconnaître son identité symptomale.
Здесь я придаю значение следующему: идентифицироваться со своим синтомом — это признать свою симптомальную идентичность.
Ce n’est pas qu’on serait d’abord, ça n’a pas le sens de ce que je crois, ça n’a pas le sens de qu’on en viendrait à s’identifier à son sinthome, sinon que on est son sinthome. S’identifier à ça, c’est le reconnaître son être de sinthome, c’est-à-dire : après l’avoir parcouru, se débarrasser des scories héritées du discours de l’Autre. Je prends la précaution de suivre précisément ses énoncés. S’identifier, dit-il, en prenant ses garanties. Et le mot de garantie, là, peut surprendre puisqu’il semble appartenir au registre deux où se serait l’Autre qui ferait figure de garantie.
Это не то, что сначала было бы так; это не имеет смысла, как я думаю; это не имеет смысла того,что пришли бы к тому, чтобы идентифицироваться со своим синтомом, иначе как: являемся своим синтомом. Идентифицироваться с этим — это признать своё бытие синтома, то есть: после того как его прошли, избавиться от шлаков, унаследованных от дискурса Другого. Я соблюдаю осторожность, точно следуя его высказываниям. Идентифицировать, — говорит он, — принимая свои гарантии. И слово «гарантия» тут может удивить, поскольку оно, по-видимому, принадлежит ко второму регистру, где Другой выступал бы в качестве гарантии.
Il me semble que s’identifier à son sinthome en prenant ses garanties, ça veut dire que la question reste toujours, là, active : est-ce bien ça ? Et ça ne se reconnaît pas à la légère. Est-ce bien de l’Un et non pas de l’Autre ?
Мне кажется, отождествиться с собственным синтомом, принимая свои гарантии — это значит, что вопрос остаётся всегда активным: действительно ли это оно? И это не распознаётся легкомысленно. Это действительно от Один, а не от Другого?
S’identifier, dit-il, aussi avec une espèce de distance. Cette distance, c’est d’abord celle de la remontée de l’inconscient au sinthome.
Идентифицироваться, — говорит он, — также с некоей дистанцией. Эта дистанция — прежде всего, это расстояние от бессознательного к синтому.
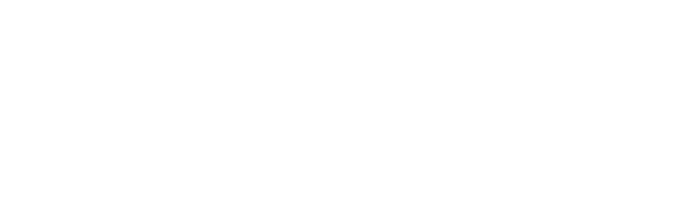
Это не так, как если бы мы с самого начала предстали в своём бытии как синтом. Такое случается, но именно когда это случается — нет никакой дистанции, то есть с этим ничего нельзя сделать.
Est-ce qu’il s’agit, justement dans cette espèce de distance, et on voit que le terme, enfin les guillemets y sont mis, c’est encore de pouvoir savoir faire quelque chose avec son être de sinthome.
Речь идёт ли, как раз в этом роде дистанции — и видно, что слово это, впрочем, взято в кавычки — идёт ли речь о том, чтобы всё же уметь что-то делать со своим бытием как синтом?
Comme dit Lacan, savoir le débrouiller, savoir le manipuler. Savoir le débrouiller c’est un terme qui a plutôt sa valeur dans le registre deux, où il s’agit de se débrouiller du vrai.
Как говорит Лакан — уметь его распутывать, уметь им манипулировать. Уметь распутывать — это выражение, которое скорее имеет свою ценность в регистре два, где речь идёт о том, чтобы распутаться с истиной.
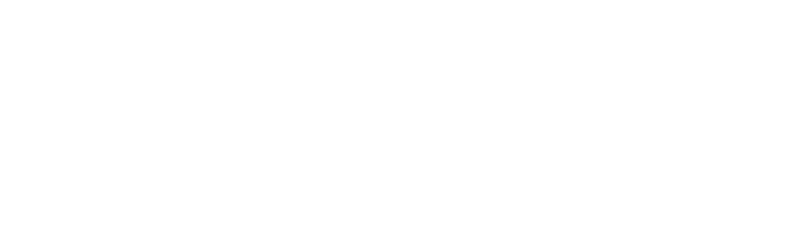
И здесь, в сущности, речь идёт о том, чтобы извлечь его из запутанности. Предпочтительнее — уметь им манипулировать, где тело вовлечено в это дело.
C’est pourquoi Lacan peut dire que ça correspond à ce que l’homme fait avec son image. Avec son image il s’identifie, ça ne l’empêche pas de pouvoir la corriger, la mettre à la mode, la mettre, cette image, dans le mode où il la veut.
Именно поэтому Лакан может сказать, что это соответствует тому, что человек делает со своим образом. С образом он идентифицируется — это не мешает ему корректировать его, делать его модным, помещать этот образ в тот режим, в каком он его желает.
Mais, quoi qu’il en soit de ce savoir-faire, savoir débrouiller, savoir manipuler, ce qui n’est pas dit, parce que ça n’est pas de ce registre là, c’est déchiffrer.
Но как бы там ни было с этим знать/уметь-делать (savoir-faire), знать/уметь-распутывать, знать/уметь-управлять, — то, что не говорится, потому что это не из этого регистра — это расшифровка.
Le sinthome, comme le plus singulier, est indéchiffrable ou pour mieux dire, il est d’un autre ordre que l’ordre du chiffre. Et c’est là précisément qu’on voit la nécessité de la promotion du terme d’usage, que depuis lors nous avons étendu à différents termes du système de Lacan.
Синтом, как нечто предельно сингулярное, неподдаётся расшифровке — или, точнее, он принадлежит иному порядку, чем порядок шифра. Именно здесь мы ясно видим необходимость выдвижения термина употребление (usage), который с тех пор мы распространили на различные термины лакановской системы.
On parle d’usage précisément et d’usage du sinthome précisément parce qu’il ne s’agit pas de le faire disparaître, et certainement pas de le faire disparaître en l’interprétant.
Мы говорим именно об употреблении (usage), и об употреблении синтома, потому что дело не в том, чтобы его устранить — и уж точно не в том, чтобы устранить его через интерпретацию.
Pour utiliser à bon escient le terme usage dans cette psychanalyse de l’Un, il faut bien concevoir qu’il est opposé au terme échange, l’échange où il s’agit de mettre à la place et la forme dans la psychanalyse que prend cet échange, c’est l’interprétation.
Чтобы использовать по назначению термин «употребление» (usage) в этом психоанализе Один, необходимо ясно понимать, что он противоположен термину «обмен» (échange) — обмену, в котором речь идёт о замещении и о форме, которую этот обмен принимает в психоанализе, а именно — интерпретации.
Le terme d’usage précisément vise quelque chose d’autre que l’interprétation, un autre mode opératoire que l’interprétation.
Термин употребление (usage) как раз и нацелен на нечто другое, чем интерпретация — на иной способ действия, отличный от интерпретации.
En même temps, remarquons que Lacan a bien procédé à une forme d’échange lorsqu’il a mis Une-bévue à la place de l’Unbewusst, un échange qui n’est pas une traduction. C’est bien un mot à la place d’un autre, fondé sur l’assonance. À la fin de son Séminaire de L’une-bévue, en effet, il y revient, il revient sur ce qu’il appelle cet exercice de métalangue. Il faut se souvenir que dans son Séminaire XI des Quatre concepts fondamentaux il avait défini l’inconscient par l’une-bévue, il avait défini l’inconscient par l’achoppement.
В то же время отметим, что Лакан действительно осуществил своего рода обмен, когда поставил Une-bévue на место Unbewusst (с нем. бессознательное) — обмен, который не является переводом. Это действительно слово на месте другого, основанное на ассонансе. В конце своего Семинара L’une-bévue он действительно возвращается к этому, он возвращается к тому, что называет упражнением метаязыка. Нужно помнить, что в своём Семинаре XI “Четырёх фундаментальных понятиях” он уже определял бессознательное через l’une-bévue, он определял бессознательное через спотыкание (achoppement).
Mais dans son Séminaire XIV ça veut dire tout autre chose. Ici, l’achoppement, ou le glissement de mot à mot, comme il s’exprime, se situe comme phénomène dans le temps antérieur à celui où peut apparaître l’inconscient puisque l’inconscient n’apparaît à partir de l’une-bévue que dans la mesure où on ajoute une finalité signifiante, que dans la mesure où on ajoute une signification.
Но в своём Семинаре XIV это означает совсем другое. Здесь спотыкание — или скольжение от слова к слову, как он выражается — располагается как феномен во времени, предшествующем тому, в котором может появиться бессознательное, поскольку бессознательное возникает из Une-bévue только постольку, поскольку добавляется означающая финальность, только постольку, поскольку добавляется значение.
C’est cet ajout qui est destiné à rester problématique chaque fois qu’on fait de l’inconscient à partir des phénomènes de bévue.
Именно это добавление предназначено оставаться проблематичным каждый раз, когда мы выводим бессознательное из феноменов оговорки/ошибки/обознанки (bévue).
Cette transformation, Lacan lui donne un nom, il appelle ça faire vrai. La psychanalyse, dit-il, c’est ce qui fait vrai. Mais il faut entendre que ça se situe, là, dans la succession du sinthome ou de la bévue à l’inconscient : on rajoute du sens. On rajoute, dit-il, un coup de sens. Mais ça reste un semblant et il le décompose même en sens-blanc, qui met en valeur, au fond, l’arbitraire du sens. Et c’est quand on y ajoute le sens, quand on y ajoute l’intention, inconsciente, alors, en effet, la bévue devient effet de l’inconscient.
Этой трансформации Лакан даёт имя: он называет это “делать-истинным” (faire vrai). Психоанализ, — говорит он, — это то, что делает истинным. Но нужно понимать, что это располагается именно в последовательности от синтома или оговорки/обозанки (bévue) к бессознательномом: добавляется смысл. Добавляется, — говорит он, — удар смысла (un coup de sens). Но это остаётся кажемостью (semblant), и он даже раскладывает его как sens-blanc — “пустой смысл”, что по сути подчёркивает произвол смысла. И это когда добавляется смысл, когда мы к этому добавляем интенцию, бессознательное, тогда обознанка/оговорка (bévue) действительно становится эффектом бессознательного.
C’est-à-dire qu’on inverse la succession normale et qu’on met la bévue, si je puis dire, après l’inconscient. Le forçage de Lacan, la torsion qu’il impose ici à l’analyste, dans sa pratique, c’est de resituer la bévue avant l’inconscient.
То есть мы инвертируем обычную последовательность и помещаем оговорку/обознанку (bévue), если можно так сказать, после бессознательного. Форсаж) Лакана, кручение, который он здесь навязывает аналитику в его практике, заключается в том, чтобы переустановить оговорку/обознанку (bévue) до бессознательного.
Ça n’abolit pas l’inconscient, ça n’abolit pas l’Autre, ça décale l’Autre en Un et donc ça fait surgir cette nappe de semblants qui enveloppe la pratique de l’analyse.
Это не упраздняет бессознательное, это не упраздняет Другого, это смещает Другого в Один, и таким образом порождает слой кажимостей (semblants), который обволакивает практику анализа.
C’est pourquoi il peut dire l’inconscient, en fin de compte, il est impossible de le saisir. Ça veut dire aussi : il est impossible de le dessiner, comme Freud s’y était essayé. L’inconscient, dit-il, se limite à une attribution. C’est l’attribution faite à — entre guillemets — une substance, à quelque chose qui serait dessous, l’attribution d’une intention à une substance. C’est sa faute, ça vient de là, c’est la cause.
Вот почему он может сказать: бессознательное — в конечном счёте, невозможно ухватить. Это также означает: его невозможно нарисовать, как пытался сделать Фрейд. Бессознательное, — говорит он, — ограничивается к приписыванию (attribution). Это приписывание — в кавычках — субстанции, чему-то, что как бы находится под поверхностью, приписывание интенции некой субстанции. Это — его вина, это пришло оттуда, это — причина.
Et c’est bien ce qui s’efface du tout dernier enseignement de Lacan, c’est cette catégorie de la cause qu’il avait rendue si fondamentale dans son système. Par quoi il retrouve, après tout, les propositions de Freud, quand Lacan dit : alors la psychanalyse n’est qu’une déduction, que la psychanalyse fait de l’inconscient rien de plus qu’une déduction. C’est retrouver la proposition freudienne qui faisait de l’inconscient une hypothèse.
И именно это стирается из самого последнего учения Лакана — категория причины, которую он сделал столь фундаментальной в своей системе. Тем самым он, в конце концов, возвращается к формулировкам Фрейда, когда Лакан говорит: тогда психоанализ — это не что иное, как дедукция (déduction), что психоанализ делает из бессознательного не более чем дедукцию. Это — возвращение к фрейдовскому утверждению, что бессознательное — гипотеза.
Mais, ce qui était, là, dit par Freud avec ce tout dernier enseignement, s’étend à l’ensemble de la pratique.
Но то, что там было сказано Фрейдом, с этим самым последним учением распространяется на всю практику.
Alors ce qui donne corps au phénomène, on peut dire que c’est le symbolique dont nous pouvons faire ici la dimension de l’une-bévue. Et c’est là que le destinataire reste coupé ; ça ne parvient pas au destinataire, dit Lacan. Par quoi il faut sans doute entendre aussi qu’il n’y a pas de destinataire, avec ce que ce mot doit au destin. C’est sans doute dire aussi : il n’y a pas de destin, il n’y a de destin que par semblant, comme il n’y a d’histoire que hystoire avec un y.
Тогда то, что придаёт телесность феномену, можно сказать — это символическое, которому мы здесь можем придать измерение L’une-bévue. И именно здесь адресат остаётся купированным (coupé); это не доходит до адресата, говорит Лакан. Под этим, несомненно, следует понимать также, что адресата (destinataire) нет, с учётом того, что это слово обязано своим смыслом слову судьба (destin). Несомненно, это означает также: судьбы нет (il n’y a pas de destin), есть судьба только как кажимость (semblant), так же как нет истории, кроме как истоерии (hystoire — с буквой y или с буквой е от истерии).
En fait, il n’y a que des hasards.
На самом деле, есть только случайности.
Alors, pour ce qui est de l’interprétation, qu’est-ce qu’on met à sa place ? Il est amusant et ça raisonne, que Lacan ait examiné la possibilité que ce ne soit qu’un effet de suggestion, au contraire de tout ce qu’il avait pu développer dans son système.
Итак, что касается интерпретации — что мы ставим на её место? Забавно — и в этом что-то отзывается, — что Лакан рассматривал возможность того, что она (интерпретация) была бы всего лишь эффектом внушения, вопреки всему тому, что он мог развивать в своей системе.
Dire effet de suggestion, c’est énorme. Il le dit bien sûr sur le mode équivoque, interrogatif. Il ne fait pas une proposition et ailleurs c’est par forçage que je dis proposition quand il s’agit de ce tout dernier enseignement de Lacan. Ou alors il faut entendre proposition comme qu’il propose, mais enfin il en dispose aussi, il en dispose négativement le plus souvent. Effet de suggestion c’est énorme parce que ça fait l’impasse sur le transfert.
Сказать «эффект внушения» — это очень много. Разумеется, он говорит это в эквивокальном, вопросительном режиме. Он не выдвигает утверждения — и вообще, говоря о самом последнем учении Лакана, я насильственно употребляю слово «утверждение». Или, может быть, это нужно понимать как то, что он предлагает, — но, в конце концов, он и распоряжается этим, чаще всего — в отрицательном ключе. Эффект внушения — это нечто огромное, потому что это приводит в тупик перенос.\
Et d’ailleurs c’est bien l’absent de ce tout dernier enseignement au moins dans les Séminaire XXIII et XXIV, le Transfert. Il fait une impasse sur le transfert parce que le transfert est par excellence du registre du numéro deux. Transfert, ça suppose masse établie et maçonner le grand Autre, le registre du destin.
И, кстати, перенос — это действительно отсутствующий элемент этого самого последнего учения, по крайней мере в Семинарах XXIII и XXIV. Он делает тупик переноса, потому что перенос, в высшей степени, принадлежит второму регистру. Перенос предполагает установленную массу и возведение (maçonner) большого Другого — регистр судьбы.
Il y a transfert, en effet, quand tout ça c’est déjà tramé, qu’on a déjà supposé le savoir qui voudrait dire quelque chose.
Перенос, действительно, возникает тогда, когда всё это уже вплетено, когда уже предположено знание, которое должно было бы что-то значить.
Et, je relève d’ailleurs que quand il se pose la question, Lacan fait revenir à cet égard fugitivement Jeremy Bentham et ses fictions parce que précisément Bentham posait, justifiait les fictions par leur utilité, c’est-à-dire par leur usage.
И, кстати, я отмечаю, что когда он задаёт себе этот вопрос, Лакан на мгновение возвращает Джереми Бентама и его фикции — потому что именно Бентам обосновывал фикции их полезностью, то есть — их употреблением (usage).
Alors, quel serait, là, qu’est-ce qui se dessine comme l’usage de ce que l’on appelait interprétation ?
Итак, каков был бы — что здесь вырисовывается как употребление (l’usage) того, что мы называли интерпретацией?
Lacan, il est instructif de voir qu’il ramène alors le principe du plaisir, que le principe du plaisir, il lui reconnaît une place à cet étage de l’Un.
У Лакана поучительно увидеть, что он возвращает тогда принцип удовольствия, что он признаёт за принципом удовольствия место на этом уровне Один.
Ce principe quasiment animal, ce principe acéphale, si on le définit comme seulement subir, pâtir le moins possible. Et c’est de ce principe du plaisir dont Lacan peut dire ça ne cesse pas un instant. On peut dire que c’est vraiment la seule loi, aux principes qu’ils reconnaissent à l’étage du sinthome.
Этот принцип почти животный, этот ацефальный принцип, если его определить как — просто терпеть (переносить), страдать как можно меньше. И именно об этом принципе удовольствия Лакан может сказать: он не прекращается ни на мгновение. Можно сказать, что это — действительно единственный закон, среди принципов, которые он признаёт на уровне синтома.
Et donc, la psychanalyse, on voit, là, consisterait à ramener au principe du plaisir par l’effet de suggestion. Et c’est pourquoi, au fond, c’est dans le même fil que Lacan minore et même fait disparaître le fondement du transfert, avec le sujet supposé savoir où la supposition fait bien voir qu’il ne s’agit que de déductions, que d’hypothèses, que de semblants.
Итак, психоанализ, как мы видим здесь, состоял бы в том, чтобы вернуть к принципу удовольствия посредством эффекта внушения. И именно поэтому, в сущности, по той же линии Лакан умаляет и даже устраняет фундамент переноса, с субъектом, предполагаемым знающим, где сама предположенность ясно показывает, что речь идёт лишь о дедукциях, гипотезах, кажимостях (dédutions, hypothèses, semblants).
La suggestion, c’est, au fond, le minimum de ce qu’il reste dans le signifiant d’effets sur un Autre. Le minimum qui reste c’est, dit-il à un moment, l’impératif. Tout discours, en cela, est hypnotique.
Внушение — это, в сущности, минимум того, что остаётся в эффекте означающего как воздействие на Другого. В какой-то момент он говорит, что тот минимум, который остается, — это императив. В этом смысле всякий дискурс — гипнотический.
Et donc ce qui reste, la voie de communication qui reste ouverte, de l’Un à l’Autre, de l’Un à un autre avant qu’il soit élevé comme grand Autre, c’est simplement un autre, la voie qui reste ouverte c’est la suggestion. Elle ne suppose rien d’autre ; c’est comme l’effet naturel du signifiant.
И, следовательно, то, что остаётся, — путь сообщения, который остаётся открытым от Один к Другому, от Одного к другому, ещё не возведённому в статус большого Другого, — это просто другой. Путь, который остаётся открытым, — это внушение. Оно не предполагает ничего другого; это как естественный эффект означающего.
C’est pourquoi, c’est comme ça que je comprends que Lacan puisse dire qu’il y a contamination du discours par le sommeil, contamination d’ailleurs qui se vérifie peu ou prou à chaque cours que je peux donner (rires). On m’en fait parfois la confidence.
Вот почему — именно так я это понимаю — Лакан может сказать, что происходит загрязнение дискурса сном, загрязнение, которое, впрочем, более или менее подтверждается на каждом курсе, который я читаю (смех). Иногда мне в этом признаются.
Et donc quand Lacan se propose d’inventer, il propose comme ambition l’invention d’un signifiant, c’est dans ce contexte. Dans ce contexte où ont été connectés le signifiant et la suggestion.
И потому, когда Лакан предлагает изобрести, он предлагает в качестве амбиции изобретение означающего — это происходит в этом контексте. В этом контексте, в котором были соединены означающее и внушение.
Simplement est-ce qu’il serait possible, quand il pose la question il en appelle à un signifiant nouveau, il s’agirait d’un signifiant qui pourrait avoir un autre usage et il le dit en passant et ce serait la sidération.
Просто — возможно ли было бы, — когда он ставит вопрос, он взывает к новому означающему: это было бы означающее, которое могло бы иметь иное употребление, — и он говорит об этом мимоходом, — и это было бы изумление (sidération).
Il en a déjà parlé jadis, dans son système, de la méthode de sidérer à l’opposé de la compréhension et à l’occasion pour forcer la compréhension.
Он уже говорил об этом прежде, в своей системе, — о методе изумления (sidération) как противоположности пониманию и, в некоторых случаях, как способе принудить к пониманию.
Ici, il en appelle à un signifiant qui serait nouveau, pas simplement parce que ce serait un plus, mais parce qu’au lieu d’être contaminé par le sommeil, il déclencherait un réveil.
Здесь он взывает к означающему, которое было бы новым — не просто потому, что это было бы нечто дополнительное, а потому, что, вместо того чтобы быть заражённым сном, оно развязывало бы пробуждение.
La question est de savoir dans quelle mesure un réveil est possible. C’est pourquoi Lacan termine son investigation du Séminaire de L’une-bévue en évoquant le somnambule.
Вопрос в том, чтобы знать, в какой мере пробуждение возможно. Вот почему Лакан завершает своё исследование в Семинаре L’une-bévue, упоминая лунатика.
Est-ce que l’Un est condamné au somnambulisme, au somnambulisme du sinthome, au hasard des bévues.
Обречён ли Один на сомнамбулизм — на сомнамбулизм синтома, на случайность оговорки/обознанки (bévues)?
Il dit autre chose, là il faut l’entendre, que c’est l’inconscient qui ne se réveille pas. La maladie mentale qu’est l’inconscient ne se réveille pas. Il faut le situer au bon endroit, à l’étage numéro deux, à ce niveau-là, pas de réveil puisqu’on va de sens en sens.
Он говорит нечто другое — нужно это услышать — это бессознательное не пробуждается. Ментальная болезнь, которой является бессознательное, не пробуждается. Это нужно расположить в нужном месте — на втором уровне: на этом уровне нет пробуждения, поскольку там всё переходит от смысла к смыслу.
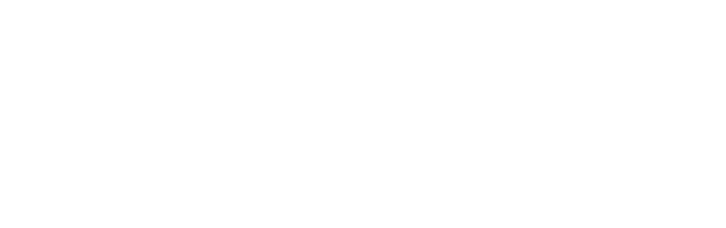
Возможно, на уровне Один, через идентификацию с синтомом, пробуждение могло бы перестать не писаться, если я могу так выразиться.
Bon, eh bien je reprendrais la fois prochaine ce chemin ardu.
Хорошо, тогда в следующий раз я продолжу этот трудный путь.
Applaudissements.
Аплодисменты.
Fin du Cours IX de Jacques-Alain Miller du 14 mars 2007
Конец IX курса Жака-Алена Миллера от 14 марта 2007 года.
Над рабочим переводом работали:
использован перевод Владимира Лосева,выполненный в ходе ателье чтения курса “СПУЛ” ЖАМа в 2025 году. Перевод доработан и переработан Ириной Север.
Редакция КС: Ирина Макарова (ред. с французского), Алла Сорокина (ред. на рус.).


