Помыслить шизофрению сегодня
Альфредо Зенони
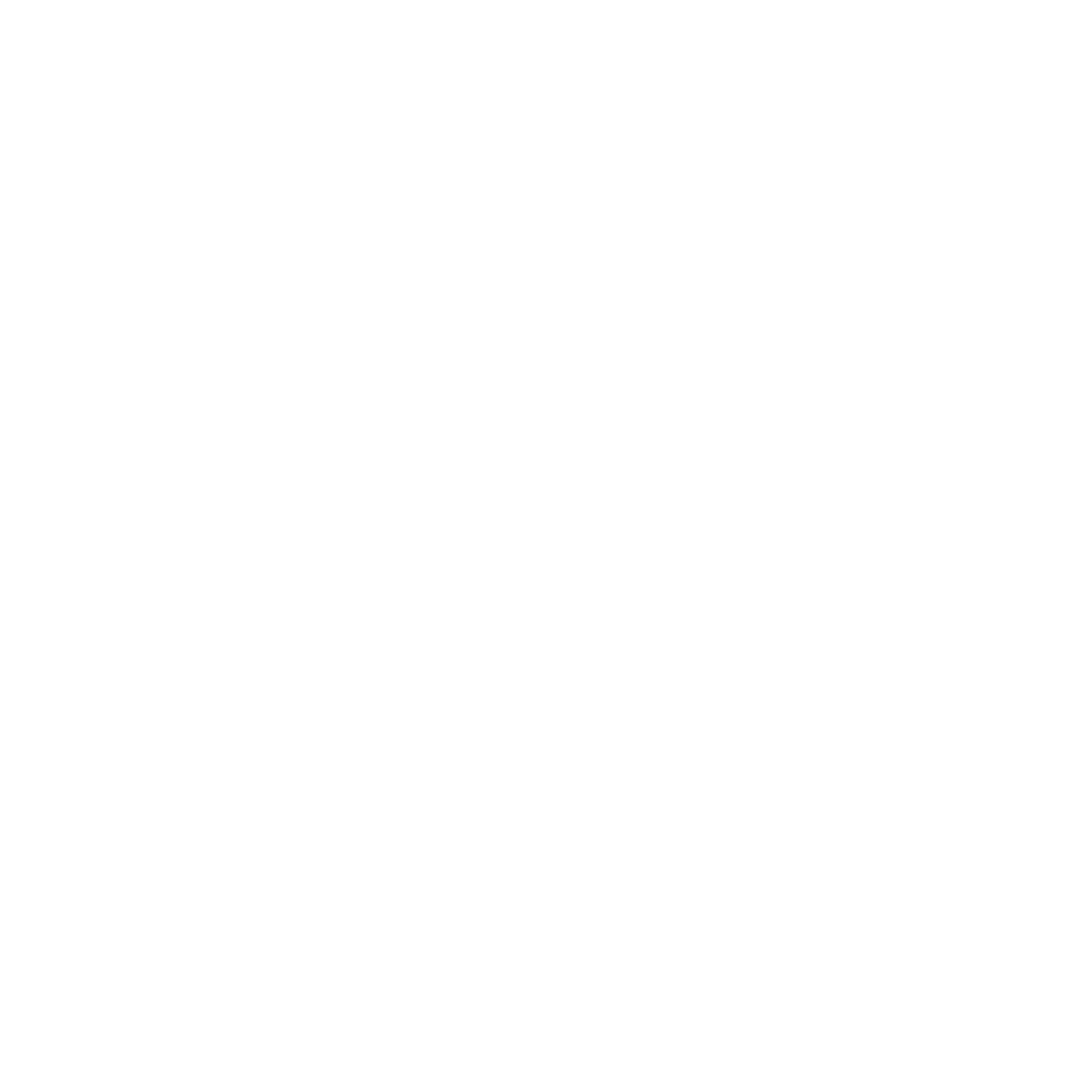
Изобретение Блейлером понятия шизофрении, предназначенного для замены термина «раннее слабоумие» / “démence précoce”, привело, если не имело своей целью, к нейтрализации новизны клиники психозов, введенной психоанализом. Это оказалось парадоксальным результатом, поскольку Блейлер и его коллега Юнг стремились продвигать принцип возможных интерпретаций психиатрических феноменов с использованием механизмов, выделенных Фрейдом. Речь шла, например, о том, чтобы показать, что такие-то бессмысленные высказывания, такие-то придуманные слова или такие-то нелогичные умозаключения не являются простым плодом случайности, но являются эффектом того или иного механизма, который характеризует психическую жизнь, когда она больше не подчиняется предполагаемой регулирующей и объединяющей власти Я: конденсации, смещению, ассоциации идей на основе фонетического сходства, метафорические выражения, воспринятые буквально, и так далее.
Однако этот интерес к расшифровке патологических феноменов, будучи не связан с фрейдовскими гипотезами об истоках безумия, стал лишь оборотной стороной клинического проекта, направленного на сведение всей симптоматики к фундаментальному расстройству, по сути, интеллектуального порядка — нарушению ассоциации идей. Было недопустимо представить, что человек мог быть разделён, «расколот» самим фактом своей человечности, из-за специфического либидо, которое им движет, как это было показано в случае неврозов. К «фрейдовским механизмам» обращались только для того, чтобы проиллюстрировать деструктуризацию способности Я к синтезу и сознанию, которая не предполагала никакой иной этиологии, кроме органической или токсической природы.
Однако этот интерес к расшифровке патологических феноменов, будучи не связан с фрейдовскими гипотезами об истоках безумия, стал лишь оборотной стороной клинического проекта, направленного на сведение всей симптоматики к фундаментальному расстройству, по сути, интеллектуального порядка — нарушению ассоциации идей. Было недопустимо представить, что человек мог быть разделён, «расколот» самим фактом своей человечности, из-за специфического либидо, которое им движет, как это было показано в случае неврозов. К «фрейдовским механизмам» обращались только для того, чтобы проиллюстрировать деструктуризацию способности Я к синтезу и сознанию, которая не предполагала никакой иной этиологии, кроме органической или токсической природы.
Возвращение к Фрейду
Одним из главных последствий продвижения «группы шизофрений», что сам Блейлер подчеркивал, стало значительное уменьшение нозологического значения паранойи и параноидальных бредов (паранойя превращается в одну из лёгких форм той же категории). Это произошло не без оснований, поскольку рассмотрение паранойи вынуждает учитывать тот факт, что отсутствие нарушений внимания, логического мышления, памяти, способности выполнять задачи — словом, отсутствие дефицитов — не мешает мужчине или женщине быть безумными.
Различные формы паранойи гораздо чётче указывают на гипотезу, что так или иначе здесь задействовано нечто, связанное с модификацией или судьбой либидо, с инвестированием или переносом. В стиле жизни субъекта, который, например, ведёт непримиримую юридическую борьбу против членов своей семьи или вынужден снова и снова избегать интриг соседей, или не отступает от уверенности в любви, несмотря на то, что его профессиональные способности или восприятие остаются совершенно неизменными, речь идёт не о слабоумии, а о чём-то другом.
Именно поэтому Фрейд настаивает не только на сохранении различия между паранойей и шизофренией, но и на том, чтобы сделать паранойю типичной формой психоза, если речь идет о том, чтобы отличить последний (психоз) от расстройств сознания инфекционного или токсического происхождения.
В то время как Блейлер с его новой категорией, которая, тем не менее, представляет собой первое применение фрейдовских идей в области психозов, вновь усиливает представление о, так сказать, «ментальной» природе болезни, закрепляя психоз в сфере патологий органического происхождения, подобных болезни Альцгеймера или синдрому Корсакова.
Таким образом, понятие шизофрении окончательно утвердилось, особенно в англосаксонской психиатрии как синоним одновременно психоза и этиологии «вероятно» генетического порядка, находясь где-то между «биполярными расстройствами» и «когнитивными нарушениями» и более не имея никакого отношения к области фрейдовских «болезней либидо».
Помыслить шизофрению сегодня значит, таким образом, вернуться к истокам этого понятия, к клинической дискуссии, начатой Фрейдом с двумя цюрихскими психиатрами, чтобы понять причины его предпочтения паранойи. С точки зрения Фрейда, паранойя лучше, чем шизофрения, позволяет не сводить человеческое безумие к слабоумию, поскольку её различные формы структурируются как множество способов опровергнуть базовую либидинальную формулу («Я, (мужчина/человек) его люблю (его, мужчину/человека)»). Эта формула позволяет поместить психоз на ту же плоскость, что и другие патологии человеческого состояния, такие как неврозы.
Паранойя чётко ставит вопрос о другой причинности, отличной от той, что имеет место в психических расстройствах органического происхождения.
Лакан сразу напоминает в своём семинаре “О психозах”, что для Фрейда поле психозов делится на два: паранойю и всё остальное, причём именно паранойя является для него объектом основного интереса.
Для Лакана также привилегия паранойи связана с рассмотрением безумия как характеристики, присущей не отдельным индивидам, а человечеству в целом. Именно поэтому он начал свою клиническую работу с переосмысления Я и воображаемой структуры через призму паранойи и, наоборот, анализа паранойи через отношение идентификации с другим (включая концепцию «зеркальной стадии»).
Первый такт ректификации клиники Блейлера заключается, таким образом, в восстановлении наряду с шизофреническим полюсом психоза его параноидального полюса. Это позволяет избежать скольжения психоза в область деменций и других когнитивных нарушений, возвращая его в поле болезней либидо.
Клиника шизофрении может быть построена не как каталог практически всех возможных дефицитов предполагаемо нормального психического функционирования, а в контрасте с характеристиками паранойи. Она выступает эквивалентом на уровне тела и языка тому, что происходит на уровне отношения с Другим и смысла в паранойе.
Однако на втором такте необходимо пройти обратный путь, пересмотрев психоз с его шизофренической стороны. Если рассматривать субъективные позиции как различные способы защиты от того, что Фрейд называл «примитивным опытом удовлетворения», а Лакан называет Реальным наслаждения, то шизофрению можно считать парадигматической модальностью психоза. Это связано с тем, что отсутствие защиты от этого Реального даже не покрывается Воображаемым и идеалами, которые действуют на стороне паранойи. Это, таким образом, краткая дифференциальная клиника психоза, объединяющая эти два этапа, которая будет рассмотрена теперь, чтобы затем выйти на её последствия для практики.
Психоз, когда Другого не существует
В своем параноидальном аспекте психоз представляется как судьба либидо, которое, хотя и не вытеснено и не «метафоризировано», всё же находит возможность проецироваться в измерение Другого, что Лакан формулирует следующим образом: «наслаждение идентифицируется в месте Другого».
Именно поэтому Другой оказывается в приоритете, и различными способами становится заинтересованным в субъекте: будь то соседи, создающие намеренные неудобства, пассажиры трамвая, которые смотрят косо, песни по радио, намекающие на его жизнь, или врач, который влюблён в него или в неё. Всё это — различные способы быть в центре человечества, в центре происходящего, будь то в преследующем или мегаломаническом режиме, — свидетельствует о статусе субъекта как объекта Другого, о наслаждении Другого, которое реализует бытие субъекта.
Здесь важно помнить, что Другой обозначает не только других людей, кого-то другого, но также и измерение, такое как собственный образ или собственное определение в социуме, которые являются “другими” по отношению к “тому же” наслаждению, остающемуся в рамках чисто аутоэротической направленности. Измерение Другого — это то, что позволяет наслаждению в некотором роде«экстернализироваться», то есть находить своё выражение в различных регистрах кажимости: от профессии до социальных связей, от одежды до обладания объектами.
Хотя наслаждение не отделено от субъекта, на параноидальной стороне психоза оно проявляется через определенную инаковость, о чём свидетельствует важность нарциссического и идентификационного измерений .
То, что раскрывается в психозе на его другой стороне, - это отсутствие основания и консистентности измерения Другого. На шизофренической стороне всё происходит так, как если бы это измерение больше не действовало или как если бы его несуществование было обнажено. Другой здесь становится измерением, лишенным всякой ценности и актуальности, подобным игре, в которую больше никто не играет или принцип который никому больше не известен.
Таким образом, например, в противоположность тому, что происходит на параноидальной стороне, произвол, несправедливость или обман здесь оказывают меньшее воздействие или вообще не затрагивают субъекта, в рамках даже того, что можно было бы назвать игрой Другого и его правила находятся на уровне их фундаментальной неконсистентности с, пустой абстракции, отсутствия смысла.
Из этой игры Другого, которой являются одновременно язык и весь опыт, сформированный и переплетенный с реальностями, существующими лишь благодаря языку, — знания, профессия, брак, карьера, деньги, займы, контракты, страховки, досуг, газеты, музеи, спорт, мода — и вот из всей этой игры, из всего того, что конституирует измерение Другого, субъект открывает на опыте, если можно так сказать фундаментальное несуществование, отсутствие цели и разумного основания.
Перенос наслаждения в это измерение кажимостей не имеет места быть. Реальность и жизнь предстают перед субъектом, лишенными всякого обмана и иллюзий, но также и без цели, без интереса. Дискурсы воспринимаются как пустые вымыслы, лишенные основания и консистентности, просто "бла-бла": они ни за что не кусают.
Субъект может продолжать ежедневно покупать газету, но не читает её, и её регулярные покупки в конце концов загромождают пространство комнаты, в которой он живёт. Мир возникает, как составленный только из теней, как выразился один пациент.
Точно так же мужчина 35 лет может однажды заявить, в ходе одной из многочисленных госпитализаций, которые сопровождали его жизнь блужданий после окончания университета, что уже 20 лет каждое утро он просыпается, не зная, какой смысл придать своей жизни. «Мне не хватает ориентира, — говорит он. — В сущности, я не знаю, что делать и зачем. Я лишён всяких опор». Он вспоминает, что в возрасте 16-17 лет, после обсуждения с матерью и сестрой, решил либо не жить, либо жить лёжа. В настоящее время его перспектива сводится к девизу: «пусть всё будет возможно, но пусть ничего никогда не происходит».
Быть подвергнутым отсутствию Другого без посредничества того, что Лакан называет дискурсом, может проявляться в регистре социальных связей — «Даже когда я с другими, я одна. Это одиночество среди других», как говорит одна пациентка, — или в области деятельности: субъект что-то делает, участвует в какой-то активности, но его самого в этом нет. «У меня больше нет ни жестов, ни или слов человека, который пишет картины», — говоритмужчина, который всё ещё иногда рисует, несмотря на свое бездействие.
Несостоятельность дискурса может иногда проявляться в виде внезапного или повторяющегося пересмотра социальных связей и привязанностей. Так, мужчина может обратиться с просьбой помочь ему сделать выбор и не бросить всё разом, как он уже поступал ранее — без причины или по случайному стечению обстоятельств, будь то работа или место жительства. Просто потому, что он говорит себе: «Я здесь, а мог бы быть где-то ещё».
Ещё в юности его охватывала идея, что малейшая деталь может всё перевернуть. Это ощущение схоже с тем, что описывает пациентка: «Даже когда я с другими, я одна. Это одиночество среди других». Или же оно проявляется в области деятельности: субъект участвует в чём-то, делает что-то, но самого его в этом нет. Как говорит тот же мужчина: «У меня есть только жест или слово человека, который пишет картины», — хотя он всё ещё изредка рисует, несмотря на общее состояние бездействия.
Несостоятельность дискурса иногда может проявляться в форме внезапного или повторяющегося пересмотра социальных привязанностей и обязательств. Например, мужчина может обратиться с просьбой помочь ему сделать выбор и не бросить всё разом, как он уже делал ранее, — без причины или случайно, будь то работа или место жительства. Он объясняет это так: «Я здесь, а мог бы быть где-то ещё».
Ещё в юности его преследовала мысль, что пустяковая деталь может всё изменить. Так, когда он проезжал на мотоцикле через мост, эта идея особенно остро давала о себе знать. В детстве он любил играть, сталкиваясь на велосипеде со стеной: он отскакивал назад и наслаждался этим мгновением неопределённости, когда всё могло перевернуться, перейти из бытия в небытие.
Клод, напротив, бесконечно формулирует противоречивые проекты: «жить как бездомный, не зная, что будет завтра, путешествовать из одного места в другое — или же снять квартиру и начать экономить». Часто то, что выглядит как «обсессивные» проверки или колебания, не отражает коренной неопределённости невротического желания, которое замирает в сомнении, чтобы ничего не потерять. Скорее, это указывает на череду определённостей, но без привязки к какой-либо причине желания, даже такой, как «анальный объект».
У некоторых субъектов пропасть несуществования, не опосредованная верой или дискурсом, проявляется в бесконечном вопросительном отношении, которое Минковский уже выделил как «вопросительную установку». Например, 19-летний юноша, на запястьях которого видны глубокие следы ожогов от сигарет, подвергает любое высказывание бесконечному испытанию «почему?».
«Что доказывает мне, что я существую?» — говорит он, но также, выходя за пределы самого когито Декарта: «Что доказывает мне, что я мыслю?». В языке, в самом деле, нет точки опоры, ни первого, ни последнего слова, ничто не основано на конечной уверенности, из которой все высказывания черпали бы свою очевидность. «Можно, следовательно, всегда поставить вопрос “почему”», — добавляет он.
Однако случается, что его отношение к неконсистентности Другого не удерживается в регистре этой философской иронии, но что тревога захватывает его, когда он касается отсутствия границ в пространстве и во времени или между жизнью и смертью: поскольку нет фиксированной точки, точки остановки, всё непрерывно, всё может продолжаться бесконечно.
Именно поэтому Другой оказывается в приоритете, и различными способами становится заинтересованным в субъекте: будь то соседи, создающие намеренные неудобства, пассажиры трамвая, которые смотрят косо, песни по радио, намекающие на его жизнь, или врач, который влюблён в него или в неё. Всё это — различные способы быть в центре человечества, в центре происходящего, будь то в преследующем или мегаломаническом режиме, — свидетельствует о статусе субъекта как объекта Другого, о наслаждении Другого, которое реализует бытие субъекта.
Здесь важно помнить, что Другой обозначает не только других людей, кого-то другого, но также и измерение, такое как собственный образ или собственное определение в социуме, которые являются “другими” по отношению к “тому же” наслаждению, остающемуся в рамках чисто аутоэротической направленности. Измерение Другого — это то, что позволяет наслаждению в некотором роде«экстернализироваться», то есть находить своё выражение в различных регистрах кажимости: от профессии до социальных связей, от одежды до обладания объектами.
Хотя наслаждение не отделено от субъекта, на параноидальной стороне психоза оно проявляется через определенную инаковость, о чём свидетельствует важность нарциссического и идентификационного измерений .
То, что раскрывается в психозе на его другой стороне, - это отсутствие основания и консистентности измерения Другого. На шизофренической стороне всё происходит так, как если бы это измерение больше не действовало или как если бы его несуществование было обнажено. Другой здесь становится измерением, лишенным всякой ценности и актуальности, подобным игре, в которую больше никто не играет или принцип который никому больше не известен.
Таким образом, например, в противоположность тому, что происходит на параноидальной стороне, произвол, несправедливость или обман здесь оказывают меньшее воздействие или вообще не затрагивают субъекта, в рамках даже того, что можно было бы назвать игрой Другого и его правила находятся на уровне их фундаментальной неконсистентности с, пустой абстракции, отсутствия смысла.
Из этой игры Другого, которой являются одновременно язык и весь опыт, сформированный и переплетенный с реальностями, существующими лишь благодаря языку, — знания, профессия, брак, карьера, деньги, займы, контракты, страховки, досуг, газеты, музеи, спорт, мода — и вот из всей этой игры, из всего того, что конституирует измерение Другого, субъект открывает на опыте, если можно так сказать фундаментальное несуществование, отсутствие цели и разумного основания.
Перенос наслаждения в это измерение кажимостей не имеет места быть. Реальность и жизнь предстают перед субъектом, лишенными всякого обмана и иллюзий, но также и без цели, без интереса. Дискурсы воспринимаются как пустые вымыслы, лишенные основания и консистентности, просто "бла-бла": они ни за что не кусают.
Субъект может продолжать ежедневно покупать газету, но не читает её, и её регулярные покупки в конце концов загромождают пространство комнаты, в которой он живёт. Мир возникает, как составленный только из теней, как выразился один пациент.
Точно так же мужчина 35 лет может однажды заявить, в ходе одной из многочисленных госпитализаций, которые сопровождали его жизнь блужданий после окончания университета, что уже 20 лет каждое утро он просыпается, не зная, какой смысл придать своей жизни. «Мне не хватает ориентира, — говорит он. — В сущности, я не знаю, что делать и зачем. Я лишён всяких опор». Он вспоминает, что в возрасте 16-17 лет, после обсуждения с матерью и сестрой, решил либо не жить, либо жить лёжа. В настоящее время его перспектива сводится к девизу: «пусть всё будет возможно, но пусть ничего никогда не происходит».
Быть подвергнутым отсутствию Другого без посредничества того, что Лакан называет дискурсом, может проявляться в регистре социальных связей — «Даже когда я с другими, я одна. Это одиночество среди других», как говорит одна пациентка, — или в области деятельности: субъект что-то делает, участвует в какой-то активности, но его самого в этом нет. «У меня больше нет ни жестов, ни или слов человека, который пишет картины», — говоритмужчина, который всё ещё иногда рисует, несмотря на свое бездействие.
Несостоятельность дискурса может иногда проявляться в виде внезапного или повторяющегося пересмотра социальных связей и привязанностей. Так, мужчина может обратиться с просьбой помочь ему сделать выбор и не бросить всё разом, как он уже поступал ранее — без причины или по случайному стечению обстоятельств, будь то работа или место жительства. Просто потому, что он говорит себе: «Я здесь, а мог бы быть где-то ещё».
Ещё в юности его охватывала идея, что малейшая деталь может всё перевернуть. Это ощущение схоже с тем, что описывает пациентка: «Даже когда я с другими, я одна. Это одиночество среди других». Или же оно проявляется в области деятельности: субъект участвует в чём-то, делает что-то, но самого его в этом нет. Как говорит тот же мужчина: «У меня есть только жест или слово человека, который пишет картины», — хотя он всё ещё изредка рисует, несмотря на общее состояние бездействия.
Несостоятельность дискурса иногда может проявляться в форме внезапного или повторяющегося пересмотра социальных привязанностей и обязательств. Например, мужчина может обратиться с просьбой помочь ему сделать выбор и не бросить всё разом, как он уже делал ранее, — без причины или случайно, будь то работа или место жительства. Он объясняет это так: «Я здесь, а мог бы быть где-то ещё».
Ещё в юности его преследовала мысль, что пустяковая деталь может всё изменить. Так, когда он проезжал на мотоцикле через мост, эта идея особенно остро давала о себе знать. В детстве он любил играть, сталкиваясь на велосипеде со стеной: он отскакивал назад и наслаждался этим мгновением неопределённости, когда всё могло перевернуться, перейти из бытия в небытие.
Клод, напротив, бесконечно формулирует противоречивые проекты: «жить как бездомный, не зная, что будет завтра, путешествовать из одного места в другое — или же снять квартиру и начать экономить». Часто то, что выглядит как «обсессивные» проверки или колебания, не отражает коренной неопределённости невротического желания, которое замирает в сомнении, чтобы ничего не потерять. Скорее, это указывает на череду определённостей, но без привязки к какой-либо причине желания, даже такой, как «анальный объект».
У некоторых субъектов пропасть несуществования, не опосредованная верой или дискурсом, проявляется в бесконечном вопросительном отношении, которое Минковский уже выделил как «вопросительную установку». Например, 19-летний юноша, на запястьях которого видны глубокие следы ожогов от сигарет, подвергает любое высказывание бесконечному испытанию «почему?».
«Что доказывает мне, что я существую?» — говорит он, но также, выходя за пределы самого когито Декарта: «Что доказывает мне, что я мыслю?». В языке, в самом деле, нет точки опоры, ни первого, ни последнего слова, ничто не основано на конечной уверенности, из которой все высказывания черпали бы свою очевидность. «Можно, следовательно, всегда поставить вопрос “почему”», — добавляет он.
Однако случается, что его отношение к неконсистентности Другого не удерживается в регистре этой философской иронии, но что тревога захватывает его, когда он касается отсутствия границ в пространстве и во времени или между жизнью и смертью: поскольку нет фиксированной точки, точки остановки, всё непрерывно, всё может продолжаться бесконечно.
Тело и язык в реальном
Дело не в том, что субъекту недоступна какая-то ментальная категории, а скорее в том, что он, как и всякий говорящий, захвачен языком, вплетен в лингвистическую ткань реальности, но без посредничества веры, без опоры на значение слов, фиксированных их употреблением в сообществе. «Без поддержки какого-либо установленного дискурса», — чтобы воспользоваться формулировкой Лакана, — субъект таким образом оказывается подвержен Реальному языка, слишком грубо сталкивается с отсутствием референта, с отсутствием принципа унификации. Всё, что кажется выполняющим роль этого референта или недостающего принципа, представляется ему тем, чем оно и является — фикцией, искусственностью, кажимостью. Но он расплачивается за эту неумолимую ясность взгляда радикальным выпадением из игры, «вне дискурса».
Ирония, более или менее жестокая, его отношения к Другому, к обществу и к вещам жизни в целом — это разоблачение их ложности и пустоты. «Всё — это маска», — заявляет эта молодая женщина, одновременно говоря о своём теле, что оно мертво, тогда как вместе с медицинской командой она пытается запустить проект профессиональной реинтеграции. А когда это не ирония, тогда это радикальное непонимание, ударяющее по отношению к реальности. Как говорила одна анализантка: «У меня ощущение, что у других есть какой-то ключ, позволяющий им понимать, иметь мнение, точку зрения, тогда как мне приходится прилагать огромное усилие, чтобы просто уловить, что мне говорят».
Речь идёт не столько о нехватке познания, сколько об избытке, можно сказать, о чрезмерном реализме: субъект не то чтобы не воспринимает реальность такой, какая она есть, или воображает несуществующее, а скорее переживает на опыте — слишком, возможно, — структуру несуществования того, что составляет собственно человеческую реальность, сотканную из искусственности, условностей, обычаев, институтов, из того, что обычно делается, что само собой разумеется, словом, кажимость, semblants. Весь этот символический порядок человеческой жизни открывается ему как по сути своей пустой, покинутый, неконсистентный
Не в меньшей степени тело, в его единстве и в его переживании, предстает как необитаемое, неукорененное, сведенное к своего рода пустой оболочке, которая является внешней субъекту ровно настолько, насколько и он сам внешне по отношению к ней. То, что может произойти с телом — несчастный случай, удар или повреждение, — как замечает Лакан по поводу эпизода из юности Джеймса Джойса, оставляет субъекта в большей или меньшей степени безразличным, как если бы это не касалось его, как если бы это тело не было его собственным. В отличие от «нарциссизма» параноика, который не терпит ни малейшего пренебрежения, насмешки или толчка, шизофреническое тело представляется как разъединенное с бытием субъекта, по аналогии с лабильностью его идентификаций. Оно может то производить впечатление движущегося как автомат, то вынужденного заимствовать позу или способ действия, заменяющий собой спонтанную настройку.
Протоколы, ритуалы, «инструкции по применению» могут занять место функции, которой орган не обладает сам по себе. Человеческое тело оказывается денатурализованным и расстроенным языком. Если оно не получает из дискурса функционирования, единого и упорядоченного принципом удовольствия, то оно обнаруживается одновременно как отсоединенное от субъекта, необитаемое и подчиненное рассеянному означиванию органов вне телесного единства.
Однако если в измерении кажимости и социального язык и тело предстают как пустые, то в измерении Реального они приобретают лишь еще более ужасную очевидность и присутствие. Так, вместо того чтобы создавать дистанцию или негативировать наслаждение, сама речь становится тем, посредством чего субъект сталкивается с наслаждением, что показывают два фундаментальных феномена: с одной стороны, молчание, с другой — отказ от языка, воспринимаемого как невыносимо инвазивный.
Если означающее не обладает свойством аннулировать наслаждение живого, проецируя его в измерение идеализации и кажимости дискурса, если оно само несёт в себе свойство вещи, если оно само есть наслаждение, тогда уже больше не о чем говорить, больше нечего сказать, поскольку Вещь уже здесь. Шизофренический мутизм резко контрастирует с говорливостью параноика, у которого разрыв между наслаждением и означающим не устранен до конца, наслаждение продолжает говорить, желать сказать, намекать. Место Другого оказывается переполненным знаками, недосказанностями, намерениями, тогда как для шизофренического субъекта оно абсолютно немо.
Но в то же время, если язык сам по себе является наслаждением, если он устраняет необходимость речи, то в шизофрении он становится чем-то вроде вторгающегося навязчивого партнёра, как это угадывается у субъекта, вынужденного добавлять уменьшительные суффиксы к некоторым глаголам — например, к глаголу «кусать», превращая его в «покусывать», — чтобы смягчить ранящий, реальный характер самих слов. Также он вынужден ставить в прошедшее несовершенное время те глаголы, которые в настоящем времени оказываются для него невыносимыми, чтобы отдалить их вторжение.
Опыт Вольфсона, который писал об этом языке «вне дискурса» и использовал само письмо, чтобы справиться с его жестокостью, является одним из ключевых примеров. Однако наиболее блистательным лечением этого вторжения языка стала работа Джойса “Finnegans Wake”, которая привела его автора к созданию нечто типа собственного имени вместо имени, созданного посредством Имени-Отца, которое было для него форклюзировано.
Точно так же, если в регистре кажимости, Воображаемого или идентификации тело представляется как внешнее субъекту или как безжизненный автомат, то в регистре Реального оно слишком переживается, слишком идентично собственной плоти, неотделимо от своего бытия-наслаждения. Трудность отделения от различных форм отброса, которые воплощают это бытие, и одновременно необходимость избавиться от него или изъять себя из него посредством реальных действий, вплоть до членовредительства, свидетельствуют об этой имманентности наслаждения в регистре Реального и его форклюзии из регистра нарциссизма.
Ирония, более или менее жестокая, его отношения к Другому, к обществу и к вещам жизни в целом — это разоблачение их ложности и пустоты. «Всё — это маска», — заявляет эта молодая женщина, одновременно говоря о своём теле, что оно мертво, тогда как вместе с медицинской командой она пытается запустить проект профессиональной реинтеграции. А когда это не ирония, тогда это радикальное непонимание, ударяющее по отношению к реальности. Как говорила одна анализантка: «У меня ощущение, что у других есть какой-то ключ, позволяющий им понимать, иметь мнение, точку зрения, тогда как мне приходится прилагать огромное усилие, чтобы просто уловить, что мне говорят».
Речь идёт не столько о нехватке познания, сколько об избытке, можно сказать, о чрезмерном реализме: субъект не то чтобы не воспринимает реальность такой, какая она есть, или воображает несуществующее, а скорее переживает на опыте — слишком, возможно, — структуру несуществования того, что составляет собственно человеческую реальность, сотканную из искусственности, условностей, обычаев, институтов, из того, что обычно делается, что само собой разумеется, словом, кажимость, semblants. Весь этот символический порядок человеческой жизни открывается ему как по сути своей пустой, покинутый, неконсистентный
Не в меньшей степени тело, в его единстве и в его переживании, предстает как необитаемое, неукорененное, сведенное к своего рода пустой оболочке, которая является внешней субъекту ровно настолько, насколько и он сам внешне по отношению к ней. То, что может произойти с телом — несчастный случай, удар или повреждение, — как замечает Лакан по поводу эпизода из юности Джеймса Джойса, оставляет субъекта в большей или меньшей степени безразличным, как если бы это не касалось его, как если бы это тело не было его собственным. В отличие от «нарциссизма» параноика, который не терпит ни малейшего пренебрежения, насмешки или толчка, шизофреническое тело представляется как разъединенное с бытием субъекта, по аналогии с лабильностью его идентификаций. Оно может то производить впечатление движущегося как автомат, то вынужденного заимствовать позу или способ действия, заменяющий собой спонтанную настройку.
Протоколы, ритуалы, «инструкции по применению» могут занять место функции, которой орган не обладает сам по себе. Человеческое тело оказывается денатурализованным и расстроенным языком. Если оно не получает из дискурса функционирования, единого и упорядоченного принципом удовольствия, то оно обнаруживается одновременно как отсоединенное от субъекта, необитаемое и подчиненное рассеянному означиванию органов вне телесного единства.
Однако если в измерении кажимости и социального язык и тело предстают как пустые, то в измерении Реального они приобретают лишь еще более ужасную очевидность и присутствие. Так, вместо того чтобы создавать дистанцию или негативировать наслаждение, сама речь становится тем, посредством чего субъект сталкивается с наслаждением, что показывают два фундаментальных феномена: с одной стороны, молчание, с другой — отказ от языка, воспринимаемого как невыносимо инвазивный.
Если означающее не обладает свойством аннулировать наслаждение живого, проецируя его в измерение идеализации и кажимости дискурса, если оно само несёт в себе свойство вещи, если оно само есть наслаждение, тогда уже больше не о чем говорить, больше нечего сказать, поскольку Вещь уже здесь. Шизофренический мутизм резко контрастирует с говорливостью параноика, у которого разрыв между наслаждением и означающим не устранен до конца, наслаждение продолжает говорить, желать сказать, намекать. Место Другого оказывается переполненным знаками, недосказанностями, намерениями, тогда как для шизофренического субъекта оно абсолютно немо.
Но в то же время, если язык сам по себе является наслаждением, если он устраняет необходимость речи, то в шизофрении он становится чем-то вроде вторгающегося навязчивого партнёра, как это угадывается у субъекта, вынужденного добавлять уменьшительные суффиксы к некоторым глаголам — например, к глаголу «кусать», превращая его в «покусывать», — чтобы смягчить ранящий, реальный характер самих слов. Также он вынужден ставить в прошедшее несовершенное время те глаголы, которые в настоящем времени оказываются для него невыносимыми, чтобы отдалить их вторжение.
Опыт Вольфсона, который писал об этом языке «вне дискурса» и использовал само письмо, чтобы справиться с его жестокостью, является одним из ключевых примеров. Однако наиболее блистательным лечением этого вторжения языка стала работа Джойса “Finnegans Wake”, которая привела его автора к созданию нечто типа собственного имени вместо имени, созданного посредством Имени-Отца, которое было для него форклюзировано.
Точно так же, если в регистре кажимости, Воображаемого или идентификации тело представляется как внешнее субъекту или как безжизненный автомат, то в регистре Реального оно слишком переживается, слишком идентично собственной плоти, неотделимо от своего бытия-наслаждения. Трудность отделения от различных форм отброса, которые воплощают это бытие, и одновременно необходимость избавиться от него или изъять себя из него посредством реальных действий, вплоть до членовредительства, свидетельствуют об этой имманентности наслаждения в регистре Реального и его форклюзии из регистра нарциссизма.
К прагматике
Здесь не место углубляться в детали феноменологии. Прежде всего мы хотели дать идею ориентации, которая определяет конструкцию психоаналитической клиники шизофрении, как предварительного этапа самого терапевтического воздействия. Мыслитьшизофрению сегодня, как было сказано выше, — значит сначала заново восстановить её в поле различных аватар либидо, представляющих собой «болезни» человеческого состояния, среди которых неврозы и паранойя были первыми исследованными формами.
Возвратив шизофрении её субъективный статус, необходимо исходить из этого и применять к практике психоанализа с психотическими субъектами те последствия, которые вытекают из неконсистентности дискурсов и из реального статуса Символического, раскрываемого самой шизофренией.
Считать, что психотический субъект страдает от недостатка оператора связывания символического, нарциссического воображаемого и реального наслаждения, которым выступает Имя-Отца, или же считать, что этот оператор лишь замещает собой узел, который изначально структурно отсутствует, — не открывает одну и ту же клиническую перспективу. Во втором случае, в самом деле, можно сделать ставку на другие операторы, которые способны заместить этот отсутствующий структурный узел, в той же степени, чтои Имя-Отца.
В эпоху, когда акцент в понимании психоза делался на его измерение Другого — на стороне паранойи, — практика могла основываться на векторе речи и символизации, в перспективе своего рода «невротизации» психоза. Однако перспектива существенно меняется, когда Символическое перестаёт рассматриваться исключительно в его функции аннулирования наслаждения и само по себе, в своём реальном измерении, лишённое семантической функции, обретает ценность наслаждения.
Тогда практика уже не может опираться на добродетели речи и Символического, предположительно способных нейтрализовать наслаждение, но должна ориентироваться на те способы его лечения «вне дискурса», которые субъект сам производит и одновременно претерпевает. Она уже не сосредоточена на вопросах типа: «Что это значит?», «Что он выражает?», «Какое послание он нам адресует?», а скорее на таких вопросах, как: «Что он лечит?», «Для чего это ему нужно?», «Какова функция (а не смысл) этого поведения, этого повторяющегося жеста?»
Речь может идти, например, о соматическом феномене — о необходимости устранить всякие следы пота или волос на теле, о практиках письма, счёта, классификации, о лексической или грамматической обработке мысли, как в случае с «покусывать», о необходимости выделять в каждой вещи знак, позволяющий её дифференцировать (например, срок годности пищевого продукта), о собирании осколков стекла для создания «восстановленного» зеркала и т. д. Эти формы лечения, изобретённые самим субъектом, могут вдохновлять нас и направлять в сопровождении, которое мы ему предлагаем.
Измерение интерпретации оказывается неэффективным, а порой даже угрожающим или инвазивным, когда на кону стоит иной регистр языка, отличный от регистра значения. В случае шизофрении мы имеем дело с этим непосредственным соединением языка и тела, означающего и наслаждения, которое открыто как для творческих решений, так и для разрушительных действий, наносящих вред как субъекту, так и его окружению.
Речь идёт, следовательно, о смещении оси терапевтической работы — в русле самих решений, которые пробует субъект — от семантического измерения к более «объектному» измерению языка, к измерению, в котором язык получает статус инструмента, объекта, буквы. Задача состоит в том, чтобы найти альтернативные способы связывания символического и тела — иные, чем те, что подключаются непосредственно к органам, — способы, включающие в себя больше воображаемой медиации; чтобы выявить иные локализации либидо, которые могли бы играть роль точки остановки, иной границы, нежели переход к акту; чтобы способствовать смещению «сепарации» в сторону практик, относящихся скорее к порядку кажимости.
Наконец, отметим, завершая, что это усиление прагматического измерения аналитической практики, коррелирующее с шизофреническим аспектом психоза, не остаётся без последствий для психоаналитической работы с психотическими субъектами в целом.
В самом деле, воздействие наслаждения в самой речи, раскрываемое шизофренией, оказывается также задействованным и на параноидальной стороне психоза. Практикующему надлежит учитывать это в той позиции, которую он занимает в переносе, и в своих интервенциях.
автор перевода: Витта Филатова
Возвратив шизофрении её субъективный статус, необходимо исходить из этого и применять к практике психоанализа с психотическими субъектами те последствия, которые вытекают из неконсистентности дискурсов и из реального статуса Символического, раскрываемого самой шизофренией.
Считать, что психотический субъект страдает от недостатка оператора связывания символического, нарциссического воображаемого и реального наслаждения, которым выступает Имя-Отца, или же считать, что этот оператор лишь замещает собой узел, который изначально структурно отсутствует, — не открывает одну и ту же клиническую перспективу. Во втором случае, в самом деле, можно сделать ставку на другие операторы, которые способны заместить этот отсутствующий структурный узел, в той же степени, чтои Имя-Отца.
В эпоху, когда акцент в понимании психоза делался на его измерение Другого — на стороне паранойи, — практика могла основываться на векторе речи и символизации, в перспективе своего рода «невротизации» психоза. Однако перспектива существенно меняется, когда Символическое перестаёт рассматриваться исключительно в его функции аннулирования наслаждения и само по себе, в своём реальном измерении, лишённое семантической функции, обретает ценность наслаждения.
Тогда практика уже не может опираться на добродетели речи и Символического, предположительно способных нейтрализовать наслаждение, но должна ориентироваться на те способы его лечения «вне дискурса», которые субъект сам производит и одновременно претерпевает. Она уже не сосредоточена на вопросах типа: «Что это значит?», «Что он выражает?», «Какое послание он нам адресует?», а скорее на таких вопросах, как: «Что он лечит?», «Для чего это ему нужно?», «Какова функция (а не смысл) этого поведения, этого повторяющегося жеста?»
Речь может идти, например, о соматическом феномене — о необходимости устранить всякие следы пота или волос на теле, о практиках письма, счёта, классификации, о лексической или грамматической обработке мысли, как в случае с «покусывать», о необходимости выделять в каждой вещи знак, позволяющий её дифференцировать (например, срок годности пищевого продукта), о собирании осколков стекла для создания «восстановленного» зеркала и т. д. Эти формы лечения, изобретённые самим субъектом, могут вдохновлять нас и направлять в сопровождении, которое мы ему предлагаем.
Измерение интерпретации оказывается неэффективным, а порой даже угрожающим или инвазивным, когда на кону стоит иной регистр языка, отличный от регистра значения. В случае шизофрении мы имеем дело с этим непосредственным соединением языка и тела, означающего и наслаждения, которое открыто как для творческих решений, так и для разрушительных действий, наносящих вред как субъекту, так и его окружению.
Речь идёт, следовательно, о смещении оси терапевтической работы — в русле самих решений, которые пробует субъект — от семантического измерения к более «объектному» измерению языка, к измерению, в котором язык получает статус инструмента, объекта, буквы. Задача состоит в том, чтобы найти альтернативные способы связывания символического и тела — иные, чем те, что подключаются непосредственно к органам, — способы, включающие в себя больше воображаемой медиации; чтобы выявить иные локализации либидо, которые могли бы играть роль точки остановки, иной границы, нежели переход к акту; чтобы способствовать смещению «сепарации» в сторону практик, относящихся скорее к порядку кажимости.
Наконец, отметим, завершая, что это усиление прагматического измерения аналитической практики, коррелирующее с шизофреническим аспектом психоза, не остаётся без последствий для психоаналитической работы с психотическими субъектами в целом.
В самом деле, воздействие наслаждения в самой речи, раскрываемое шизофренией, оказывается также задействованным и на параноидальной стороне психоза. Практикующему надлежит учитывать это в той позиции, которую он занимает в переносе, и в своих интервенциях.
автор перевода: Витта Филатова


