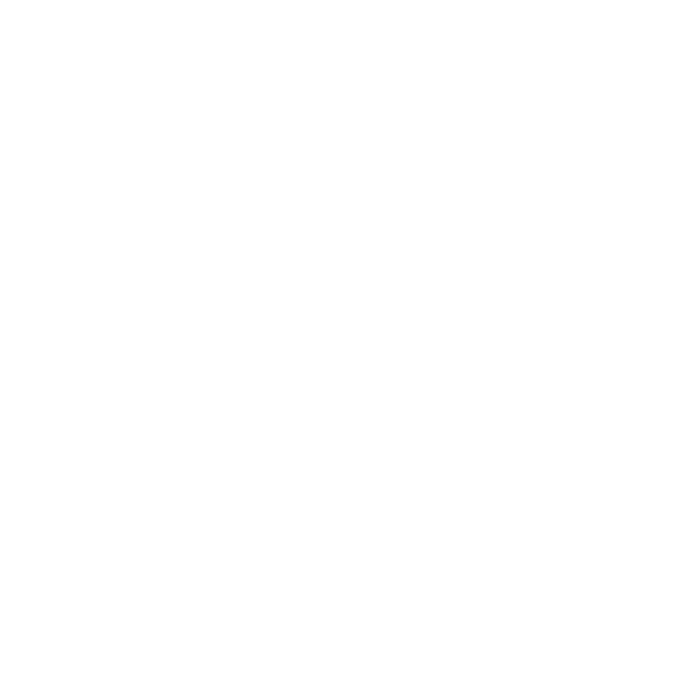
Диагноз: поэзия
Итак, «весь мир безумен». Безумен мир, сказал Лакан, а следом Жак-Ален Миллер добавил, - безумен настолько, что диагнозы в клинике уже не применяются, они понятны. На место диагнозов заступает клинический допрос, а точнее – клиническое опрашивание, дарующее на выходе оче-видное, но сжатое описание Нечто, что имеет порядок именования. Чтобы порядок смог как-то называться, у него должно появиться имя, имя порядка, имя для описания безымянного феномена, обрамленного словесным узором клинической картины.
Каким будет это новое имя? – вопрос, обращенный к клиницисту-оратору, а заодно и к его поэтическому таланту, позволяющему именовать феномен, не отказываясь от самого субъекта по ту сторону клинического подхода. Безусловно, это не просто вслепую брошенный вопрос, но вопрос языка, логики, техники (τέχνη), времени, в конце концов и начале начал – помимо проступающего на фоне лечения желания пациента, целью которого служит работа анализа – желания самого аналитика.
Однако желание, как и любовь, требующая в столь аккуратном деле участия нескольких сторон, наряду с прочими заглавными осями бесконечных психоаналитических разговоров, определяется не так-то просто. Порой оно, желание, напрочь отказывается в себе сознаваться. И эта ситуация с желанием, желанным или нежеланным образом, оказывается со-пряжена, связана на манер пряжи с именем, с отношением субъекта и аналитика к этому имени. Так, по всей поэтической кажимости, плетется полотно поэзии в ее взаимосвязи с именем и желанием.
На случай, если карманы фантазии идейно пусты, в качестве источника вдохновения Гиль Гароз предлагает обратить внимание на «гений Клерамбо», засвидетельствованные произведения-отчеты о своих пациентах которого, «относящиеся в равной степени к искусству и науке», позволяют «безошибочно, гладко проследить личностные особенности пациента, учитывая неологизмы, что всегда оказывалось подлинным основанием. Можно сказать, что он практически создал литературную школу, которая должна была бы стать направлением работы для всех учреждений»[1].
Стало быть, жизнеречивое зерно поэзии способно прорасти на ниве любого дискурсивного творчества – в том числе и психиатрического. Код или диагноз, будучи, на первый взгляд и вкус, кислым запылившимся сухарем, могут оказаться изысканным блюдом на столе диагностических десертов, если к ним добавить щепотку-другую «описательной» поэтической крошки. Подобным аппетитно-художественным образом Клерамбо как раз и оформлял свои психиатрические «свидетельства», превращая содержимое блюда – описываемого больного – не в постный материал-начинку, но в живую личность. Нетривиальный птифур с ощущением «материального присутствия пациента, подкрепленного его собственными словами» - высокая кухня!
Наглядной иллюстрацией сказанному служит замечательная вне-голос-лов-ная выдержка из случая одной монастырской швеи по имени Амели, описывающей будоражащую странность охватывающего ее паразитического синдрома психического автоматизма. Цитирую: «Когда кто-то говорит «кто-то», можно предположить, будто речь идет о разговоре двух людей… Есть что-то, что говорит, когда захочется, и замолкает, когда больше не говорит». Что делает Клерамбо? Психиатр, в свою очередь, отмечает, что «ее эротизм проявляется в улыбках и продолжительном румянце», помимо прочего, пациентка «начинает и заканчивает свою речь импульсивными жестами и произносит вслух то, что мы, по ее мнению, думаем». Как читатели мы становимся во\у-влеченными участниками в проводимое в необыкновенном кинематографическом духе real-time интервью Клерамбо. Снова цитата: «Часть ее устает к концу опроса, и это заставляет ее уклоняться от ответов; другая же часть, благосклонная к нам, раздражена этим уклонением и дает резкий отпор первой, восклицая: «Мы хотим отвечать, а ты уходи, мы можем подождать немного».[2]
По завершении действа Клерамбо в сдержанной, лаконичной манере пишет: «В заключение: Автоматизм. Эротизм. Мистицизм. Мегаломания», — так слова, некогда звучащие на занудно-зудящий манер универсальной классификации, превращаются в оживленное именование феноменов, относящихся самым живым и непосредственным образом к героине наблюдаемого сюжета – к Амели.
Клинические презентации (présentations de malades) Жака Лакана, который считал Клерамбо своим единственным наставником в психиатрии – и не без основания, во многом согласуются с его, Клерамбо, учением. Жак-Ален Миллер отмечает, что эти презентации возвращают нас к греческой трагедии, участники которой, являющиеся в данном случае одновременно и хором, и зрителями, ожидают не катарсиса, но диагноза, который станет заключительным словом в отношении пациента[3]. Deus ex machina, не иначе.
Но вернемся к д-ру Лакану: какой клинический трюк предлагает нам он? Обманывая ожидания зрительской\читательской ложи, Лакан заносит над «случаем» ногу и… делает шаг в сторону. В предположительно завершающей историю точке повествования Лакан подтверждает диагноз, но в то же время, подвешивая его на крюк аналитического прицела, проблематизирует его во имя продолжения исследования. Нет в психоанализе окончательных ответов, как нет и конечных для анализа путей.
Если Лакан и размещает в своей речи отсылку на классификацию, то лишь с тем, чтобы привлечь внимание к обычному состоянию психотического субъекта, в котором не наблюдается затруднений в распознавании другого в захватывающем его психическом автоматизме. В остальном же Лакан истово следует фрейдистской традиции именования субъектной сингулярности, сингулярного наслаждения. Мы помним Берту Паппенгейм в обличии Анны О, Эрнста Ланцера, заступившего на сцену психоанализа под именем «Человек-Крыса», Герберта Графа – «Маленького Ганса» — это имена (пусть даже с пристройкой «псевдо»), это случаи, истории, люди, но никогда не каталогизированные безымянные образчики истерии, обсессивного невроза или детской фобии. Вслед за перечисленными «персонажами» мы вспоминаем и Сергея Константиновича Панкеева, известного нам как «Человек-Волк», да, узнаваемого по псевдониму, но не по его диагнозу «инфантильный невроз», громкое название которого, несмотря на свою тяжелую категоричную поступь, все же оставляет за собой внушительный шлейф вопросов, споров и сомнений.
И если психоанализ в отдельных клинических сюжетах согласуется с психиатрической нозографией, то лишь с тем, чтобы яснее очертить способы наслаждения субъекта, имеющих непредсказуемо мало общего с особенностями его экзистенциальной позы, психического быта (не бытия!) или опсихологизированного умонастроения.
Именование феномена – это призыв к литературному изложению конструкции случая в большей степени, нежели к научной, туманной, фанфаронской компетентности, это зов особого, особенного имени, имени сингулярного наслаждения. И первый, по всей видимости, лучший для выработки этих усилий именования опыт стоит искать на лоне собственного «лечения», поскольку умение давать имя своему наслаждению, по мнению Гиля Гароза, — это предварительное условие возможности именования наслаждения другого.
Диагностировать — значит упражняться в поэзии. Ni plus, ni moins. Но что такое поэзия? Для нас, аналитиков, это, быть может, вне-конечный вопрос.
[1] Подробнее см: Клерамбо, Œuvre psychiatrique, PUF, Париж, 1942.
[2] Там же.
[3] Миллер Ж.-А. «Уроки презентации больных», Клинические дискуссии Аркашона, Париж, Le Seuil, 1997, с. 285–304.
Пунктуация Аллы Бибиксаровой по мотивам статьи
Гиля Гароза «Диагноз как упражнение в поэзии».
Итак, «весь мир безумен». Безумен мир, сказал Лакан, а следом Жак-Ален Миллер добавил, - безумен настолько, что диагнозы в клинике уже не применяются, они понятны. На место диагнозов заступает клинический допрос, а точнее – клиническое опрашивание, дарующее на выходе оче-видное, но сжатое описание Нечто, что имеет порядок именования. Чтобы порядок смог как-то называться, у него должно появиться имя, имя порядка, имя для описания безымянного феномена, обрамленного словесным узором клинической картины.
Каким будет это новое имя? – вопрос, обращенный к клиницисту-оратору, а заодно и к его поэтическому таланту, позволяющему именовать феномен, не отказываясь от самого субъекта по ту сторону клинического подхода. Безусловно, это не просто вслепую брошенный вопрос, но вопрос языка, логики, техники (τέχνη), времени, в конце концов и начале начал – помимо проступающего на фоне лечения желания пациента, целью которого служит работа анализа – желания самого аналитика.
Однако желание, как и любовь, требующая в столь аккуратном деле участия нескольких сторон, наряду с прочими заглавными осями бесконечных психоаналитических разговоров, определяется не так-то просто. Порой оно, желание, напрочь отказывается в себе сознаваться. И эта ситуация с желанием, желанным или нежеланным образом, оказывается со-пряжена, связана на манер пряжи с именем, с отношением субъекта и аналитика к этому имени. Так, по всей поэтической кажимости, плетется полотно поэзии в ее взаимосвязи с именем и желанием.
На случай, если карманы фантазии идейно пусты, в качестве источника вдохновения Гиль Гароз предлагает обратить внимание на «гений Клерамбо», засвидетельствованные произведения-отчеты о своих пациентах которого, «относящиеся в равной степени к искусству и науке», позволяют «безошибочно, гладко проследить личностные особенности пациента, учитывая неологизмы, что всегда оказывалось подлинным основанием. Можно сказать, что он практически создал литературную школу, которая должна была бы стать направлением работы для всех учреждений»[1].
Стало быть, жизнеречивое зерно поэзии способно прорасти на ниве любого дискурсивного творчества – в том числе и психиатрического. Код или диагноз, будучи, на первый взгляд и вкус, кислым запылившимся сухарем, могут оказаться изысканным блюдом на столе диагностических десертов, если к ним добавить щепотку-другую «описательной» поэтической крошки. Подобным аппетитно-художественным образом Клерамбо как раз и оформлял свои психиатрические «свидетельства», превращая содержимое блюда – описываемого больного – не в постный материал-начинку, но в живую личность. Нетривиальный птифур с ощущением «материального присутствия пациента, подкрепленного его собственными словами» - высокая кухня!
Наглядной иллюстрацией сказанному служит замечательная вне-голос-лов-ная выдержка из случая одной монастырской швеи по имени Амели, описывающей будоражащую странность охватывающего ее паразитического синдрома психического автоматизма. Цитирую: «Когда кто-то говорит «кто-то», можно предположить, будто речь идет о разговоре двух людей… Есть что-то, что говорит, когда захочется, и замолкает, когда больше не говорит». Что делает Клерамбо? Психиатр, в свою очередь, отмечает, что «ее эротизм проявляется в улыбках и продолжительном румянце», помимо прочего, пациентка «начинает и заканчивает свою речь импульсивными жестами и произносит вслух то, что мы, по ее мнению, думаем». Как читатели мы становимся во\у-влеченными участниками в проводимое в необыкновенном кинематографическом духе real-time интервью Клерамбо. Снова цитата: «Часть ее устает к концу опроса, и это заставляет ее уклоняться от ответов; другая же часть, благосклонная к нам, раздражена этим уклонением и дает резкий отпор первой, восклицая: «Мы хотим отвечать, а ты уходи, мы можем подождать немного».[2]
По завершении действа Клерамбо в сдержанной, лаконичной манере пишет: «В заключение: Автоматизм. Эротизм. Мистицизм. Мегаломания», — так слова, некогда звучащие на занудно-зудящий манер универсальной классификации, превращаются в оживленное именование феноменов, относящихся самым живым и непосредственным образом к героине наблюдаемого сюжета – к Амели.
Клинические презентации (présentations de malades) Жака Лакана, который считал Клерамбо своим единственным наставником в психиатрии – и не без основания, во многом согласуются с его, Клерамбо, учением. Жак-Ален Миллер отмечает, что эти презентации возвращают нас к греческой трагедии, участники которой, являющиеся в данном случае одновременно и хором, и зрителями, ожидают не катарсиса, но диагноза, который станет заключительным словом в отношении пациента[3]. Deus ex machina, не иначе.
Но вернемся к д-ру Лакану: какой клинический трюк предлагает нам он? Обманывая ожидания зрительской\читательской ложи, Лакан заносит над «случаем» ногу и… делает шаг в сторону. В предположительно завершающей историю точке повествования Лакан подтверждает диагноз, но в то же время, подвешивая его на крюк аналитического прицела, проблематизирует его во имя продолжения исследования. Нет в психоанализе окончательных ответов, как нет и конечных для анализа путей.
Если Лакан и размещает в своей речи отсылку на классификацию, то лишь с тем, чтобы привлечь внимание к обычному состоянию психотического субъекта, в котором не наблюдается затруднений в распознавании другого в захватывающем его психическом автоматизме. В остальном же Лакан истово следует фрейдистской традиции именования субъектной сингулярности, сингулярного наслаждения. Мы помним Берту Паппенгейм в обличии Анны О, Эрнста Ланцера, заступившего на сцену психоанализа под именем «Человек-Крыса», Герберта Графа – «Маленького Ганса» — это имена (пусть даже с пристройкой «псевдо»), это случаи, истории, люди, но никогда не каталогизированные безымянные образчики истерии, обсессивного невроза или детской фобии. Вслед за перечисленными «персонажами» мы вспоминаем и Сергея Константиновича Панкеева, известного нам как «Человек-Волк», да, узнаваемого по псевдониму, но не по его диагнозу «инфантильный невроз», громкое название которого, несмотря на свою тяжелую категоричную поступь, все же оставляет за собой внушительный шлейф вопросов, споров и сомнений.
И если психоанализ в отдельных клинических сюжетах согласуется с психиатрической нозографией, то лишь с тем, чтобы яснее очертить способы наслаждения субъекта, имеющих непредсказуемо мало общего с особенностями его экзистенциальной позы, психического быта (не бытия!) или опсихологизированного умонастроения.
Именование феномена – это призыв к литературному изложению конструкции случая в большей степени, нежели к научной, туманной, фанфаронской компетентности, это зов особого, особенного имени, имени сингулярного наслаждения. И первый, по всей видимости, лучший для выработки этих усилий именования опыт стоит искать на лоне собственного «лечения», поскольку умение давать имя своему наслаждению, по мнению Гиля Гароза, — это предварительное условие возможности именования наслаждения другого.
Диагностировать — значит упражняться в поэзии. Ni plus, ni moins. Но что такое поэзия? Для нас, аналитиков, это, быть может, вне-конечный вопрос.
[1] Подробнее см: Клерамбо, Œuvre psychiatrique, PUF, Париж, 1942.
[2] Там же.
[3] Миллер Ж.-А. «Уроки презентации больных», Клинические дискуссии Аркашона, Париж, Le Seuil, 1997, с. 285–304.
Пунктуация Аллы Бибиксаровой по мотивам статьи
Гиля Гароза «Диагноз как упражнение в поэзии».


