
Sam Cullman/Oscilloscope Laboratories
Введение
В своей работе «The Impostor: Contribution to Ego Psychology of a Type of Psychopath», Элен Дойч замечает, что «мир переполнен личностями “как если бы”, и ещё больше — самозванцами и притворщиками». Случается так, что они ведут самую нормальную из возможных жизней, ничем не выделяясь. Их поведение может быть скопировано с ближайших товарищей, как в случае, описанном Катаном, на который ссылается Лакан в Семинаре «Психозы», где идентификация с товарищем привела к влюбленности в одну и ту же девушку, выбравшую, что комично, именно молодого человека, не претендовавшего на оригинальность. Или же как описанные Дойч случаи, которые будут вызывать горячий интерес только у клиницистов, отметивших в психике таких субъектов что-то интересное для теории и клиники, помимо общей странности, которую могут признать и окружающие.
Случается и так, что мимикрия таких личностей выходит за рамки обыденной жизни, и их изобретения, упорядочивающие реальность, отличные от невротической конструкции, опирающейся на отцовскую метафору, оказываются в центре внимания не только клиницистов, но и прессы, поражая своей находчивостью.
Так было в случае Марка Лэндиса. Он прославился тем, что в течение более двух десятилетий подделывал работы, в основном графические, модернистских художников, и рассылал их по музеям и галереям, которые охотно принимали их в дар. В конце концов, в 2010 году он был разоблачен, но избежал какого-либо наказания, потому что не нанес никому материального ущерба. Сам Лэндис, в личной истории которого были, например, эпизоды госпитализации в психиатрические больницы с диагнозами шизофрении, параноида и кататоническими кризами, а также существование на одну лишь пенсию по инвалидности, хотел лишь чтобы где-то в институциях было зафиксировано, что он, Марк Лэндис, — известный филантроп и даритель. Признание в качестве художника, несмотря на талант, его не интересовало, как и потенциальная меновая стоимость его работ.
Случай Лэндиса и его уникальное изобретение, подробности которого мы узнали из текста Саши Новоженовой, посвященного месту искусства как дара в капиталистической системе, и фильма Art and craft, заставил нас задуматься о некоторой перекличке между концептами as if, («как если бы») Элен Дойч, ее разработками в теории «imposteurs», (самозванцев), и поздним учением Лакана, в котором la nomination, (именование) выходит на передний план. При некотором концептуальном сходстве, мы проследим различия в этих теориях в понимании субъективности и идентификации.
Случается и так, что мимикрия таких личностей выходит за рамки обыденной жизни, и их изобретения, упорядочивающие реальность, отличные от невротической конструкции, опирающейся на отцовскую метафору, оказываются в центре внимания не только клиницистов, но и прессы, поражая своей находчивостью.
Так было в случае Марка Лэндиса. Он прославился тем, что в течение более двух десятилетий подделывал работы, в основном графические, модернистских художников, и рассылал их по музеям и галереям, которые охотно принимали их в дар. В конце концов, в 2010 году он был разоблачен, но избежал какого-либо наказания, потому что не нанес никому материального ущерба. Сам Лэндис, в личной истории которого были, например, эпизоды госпитализации в психиатрические больницы с диагнозами шизофрении, параноида и кататоническими кризами, а также существование на одну лишь пенсию по инвалидности, хотел лишь чтобы где-то в институциях было зафиксировано, что он, Марк Лэндис, — известный филантроп и даритель. Признание в качестве художника, несмотря на талант, его не интересовало, как и потенциальная меновая стоимость его работ.
Случай Лэндиса и его уникальное изобретение, подробности которого мы узнали из текста Саши Новоженовой, посвященного месту искусства как дара в капиталистической системе, и фильма Art and craft, заставил нас задуматься о некоторой перекличке между концептами as if, («как если бы») Элен Дойч, ее разработками в теории «imposteurs», (самозванцев), и поздним учением Лакана, в котором la nomination, (именование) выходит на передний план. При некотором концептуальном сходстве, мы проследим различия в этих теориях в понимании субъективности и идентификации.
Копировать, представляться, именоваться: три модуса субъективности
Отметим, что во всех трех случаях речь не идет о снижении интеллектуальных способностей. Однако Дойч выделяет основное различие личностей «как если бы»: это «совершенно пассивное отношение к окружающему миру». Они характеризуются псевдонормальностью, выглядят совершенно обычными, но лишены подлинной аффективной жизни. Дойч описывает их как людей, которые формально ведут себя в жизни так, как если бы они полностью переживали свои чувства, но при этом «все их отношения лишены малейшего следа теплоты». Их существование основано на автоматической идентификации с окружающими объектами и полной податливости внешним влияниям. Пока объект доступен и рядом, есть и идентификационная связь.
Как в случае, описанном Катаном, субъект мимикрирует под кого-то, копируя одежду, манеру говорить, черты из поведения выбранного им за образец для подражания человека.
Любое действие также будет отмечено пассивностью. Так, Дойч описывает случай молодой девушки, получившей художественное образование, но несмотря на талант, в ней не было никакой оригинальности. Это удивило ее учителя, тоже анализанта Дойч, как и тот факт, что сменив учителя на другого, работавшего совсем в другом стиле, эта девушка очень быстро переучилась писать, как он, без тени сомнения или трудностей. Так, самый творческий способ отличиться от других может оказаться самым банальным.
Что касается самозванцев, в их действиях мы, вслед за Дойч, в отличие от личностей «как если бы», отмечаем более активную позицию. Самозванец сознательно обманывает других, создавая ложные истории о своей идентичности, достижениях или положении. Мы находим это в случае Джимми как парадигмальном, которому Дойч уделяет значительное внимание в своей работе.
Джимми последовательно создавал различные ложные идентичности, становясь то фермером, то писателем, то кинопродюсером, то изобретателем. В каждом случае он тщательно инвестировал в создание правильной обстановки, правильного наряда и правильной сети людей, окружавших его. Его связь с Другим выстраивалась через разыгрывание сцен, где он занимал желаемое место — но он принимал должности, которые не мог удержать, брал на себя обязательства, которые не выполнял, давал обещания и нарушал их.
Хрупкость этой конструкции особенно видна по случаю в армии, куда он записался как волонтер, и куда приехал на новом блестящем мотоцикле, быстро создав среди других новобранцев впечатление будущего героя. Но как только пришла новость о прибытии строгой инспекции, он понял, что военные власти не обманешь, и его «героизм» превратился в дезертирство — он симулировал болезнь, чтобы избежать наказания и был отправлен домой из госпиталя. Это закончилось приступом тревоги, которая, как отмечает Дойч, и держала его в терапевтических отношениях с ней.
Парадоксально, что когда Джимми начинал добиваться реального успеха под своим собственным именем, его страх быть разоблаченным как самозванец усиливался. Когда он действительно обманывал, он даже меньше боялся разоблачения, но когда он работал честно и меньше притворялся, его мучил страх, что обман может быть обнаружен.
Отметим, что активность самозванцев сопровождается и большей самокритичностью, и возможностью появления вопроса «Кто я?», мучившего Джимми в период его лечения. В конце концов, он требовал от Дойч, как от Другого, ответа на загадку своей субъективной пустоты. Вместе с теорией Лакана мы можем формализовать эту дыру как Фo, следствие форклюзии Имени Отца, подробно описанную Лаканом в статье «D’une question préliminaire…». И самозванцы, и личности «как если бы» непрестанно пытаются восполнить Фo через конструирование образов: либо фантазии о собственной исключительности, либо механические копии случайно попавшихся под руку примеров. На наш взгляд, это особый вид нарциссизма, связанный с элизией в стадии зеркала, которую Лакан подчеркивает в случае Шребера.Однако в случаях «как если бы», как и случаях самозванцев, мы не видим такого грандиозного развития устойчивых бредовых конструкций; Дойч классифицирует их на стороне шизофрении.
В этой перспективе Марк Лэндис – классический самозванец. Его обман был все так же связан с вопросом «Кто я?», с той лишь разницей, что он сам придумал ответ на этот вопрос, сделав изобретение, работавшее для него и выполнявшее свою функцию на протяжении десятилетий. Он требовал от Другого лишь признания, неустанно подкрепляя свой статус коллекционера и дарителя.
Некоторые факты его биографии позволяют нам очертить тот путь, который он проделал к этой конструкции субъективного упорядочивания.
Когда ему было 17 лет, его отец, лейтенант-командор, скоропостижно умер от онкологического заболевания. Это событие становится потрясением для Лэндиса, он проводит 18 месяцев на психиатрическом отделении. Там же он посещает арт-терапию, и после лечения поступает в художественный институт Чикаго, а затем – в Сан-Франциско, где получает необходимый опыт в реставрации. Он даже покупает художественную галерею, не имевшую успеха, и, потеряв деньги, возвращается жить с матерью и отчимом в небольшой город в штате Миссисипи.
В это же время он начинает свою карьеру фальсификатора, используя самые простые материалы из Walmart. В момент дарения картин он часто выдавал себя за священника-иезуита и притворялся исполнителем завещания важного семейного поместья. Он использовал различные псевдонимы, включая Стивена Гардинера, отца Артура Скотта, отца Джеймса Брэнтли и другие.
Однако именно распространение подделок под его собственным именем позволило Мэттью Лейнингеру, регистратору одного из музеев, обнаружить странность. Так, Лейнингер сопоставил очень похожие работы тех же художников от одного и того же «дарителя» в разных музеях и обнаружил, что Лэндис обманул более 60 музеев в 20 американских штатах.
Сам Лэндис говорил, что хотел этим жестом порадовать мать и почтить память отца. Придумав себе этот эго-идеал, он неустанно подтверждал его, как патологический самозванец, что Дойч описывала как попытку самозванцев «устранить трение между патологически преувеличенным идеалом эго и другим».
В перспективе последнего учения Лакана мы можем рассмотреть это означающее «филантроп» (с конструкцией ему сопутствующей) как пришедшее на место Имени-Отца, и оказавшееся стойкой альтернативой. В отличие от логики присутствия и дефицита, Лакан допускает возможность замены Имени-Отца другими формами. Так, он уточняет, что не только Символическое имеет привилегию Имени-Отца, и что именование не обязательно должно быть связано с дырой Символического.Эту роль может взять на себя искусство, наука или даже симптом как то, что Лакан назовет «цветком символического».
В этом Лэндис, с его последовательным использованием означающего, отличен от случаев «как если бы», опирающихся только на образ, но также и от большого количества самозванцев, которым не удается создать устойчивую конструкцию на месте Фo, и вынужденных перебирать идентичности, как Джимми из случая Дойч.
Как в случае, описанном Катаном, субъект мимикрирует под кого-то, копируя одежду, манеру говорить, черты из поведения выбранного им за образец для подражания человека.
Любое действие также будет отмечено пассивностью. Так, Дойч описывает случай молодой девушки, получившей художественное образование, но несмотря на талант, в ней не было никакой оригинальности. Это удивило ее учителя, тоже анализанта Дойч, как и тот факт, что сменив учителя на другого, работавшего совсем в другом стиле, эта девушка очень быстро переучилась писать, как он, без тени сомнения или трудностей. Так, самый творческий способ отличиться от других может оказаться самым банальным.
Что касается самозванцев, в их действиях мы, вслед за Дойч, в отличие от личностей «как если бы», отмечаем более активную позицию. Самозванец сознательно обманывает других, создавая ложные истории о своей идентичности, достижениях или положении. Мы находим это в случае Джимми как парадигмальном, которому Дойч уделяет значительное внимание в своей работе.
Джимми последовательно создавал различные ложные идентичности, становясь то фермером, то писателем, то кинопродюсером, то изобретателем. В каждом случае он тщательно инвестировал в создание правильной обстановки, правильного наряда и правильной сети людей, окружавших его. Его связь с Другим выстраивалась через разыгрывание сцен, где он занимал желаемое место — но он принимал должности, которые не мог удержать, брал на себя обязательства, которые не выполнял, давал обещания и нарушал их.
Хрупкость этой конструкции особенно видна по случаю в армии, куда он записался как волонтер, и куда приехал на новом блестящем мотоцикле, быстро создав среди других новобранцев впечатление будущего героя. Но как только пришла новость о прибытии строгой инспекции, он понял, что военные власти не обманешь, и его «героизм» превратился в дезертирство — он симулировал болезнь, чтобы избежать наказания и был отправлен домой из госпиталя. Это закончилось приступом тревоги, которая, как отмечает Дойч, и держала его в терапевтических отношениях с ней.
Парадоксально, что когда Джимми начинал добиваться реального успеха под своим собственным именем, его страх быть разоблаченным как самозванец усиливался. Когда он действительно обманывал, он даже меньше боялся разоблачения, но когда он работал честно и меньше притворялся, его мучил страх, что обман может быть обнаружен.
Отметим, что активность самозванцев сопровождается и большей самокритичностью, и возможностью появления вопроса «Кто я?», мучившего Джимми в период его лечения. В конце концов, он требовал от Дойч, как от Другого, ответа на загадку своей субъективной пустоты. Вместе с теорией Лакана мы можем формализовать эту дыру как Фo, следствие форклюзии Имени Отца, подробно описанную Лаканом в статье «D’une question préliminaire…». И самозванцы, и личности «как если бы» непрестанно пытаются восполнить Фo через конструирование образов: либо фантазии о собственной исключительности, либо механические копии случайно попавшихся под руку примеров. На наш взгляд, это особый вид нарциссизма, связанный с элизией в стадии зеркала, которую Лакан подчеркивает в случае Шребера.Однако в случаях «как если бы», как и случаях самозванцев, мы не видим такого грандиозного развития устойчивых бредовых конструкций; Дойч классифицирует их на стороне шизофрении.
В этой перспективе Марк Лэндис – классический самозванец. Его обман был все так же связан с вопросом «Кто я?», с той лишь разницей, что он сам придумал ответ на этот вопрос, сделав изобретение, работавшее для него и выполнявшее свою функцию на протяжении десятилетий. Он требовал от Другого лишь признания, неустанно подкрепляя свой статус коллекционера и дарителя.
Некоторые факты его биографии позволяют нам очертить тот путь, который он проделал к этой конструкции субъективного упорядочивания.
Когда ему было 17 лет, его отец, лейтенант-командор, скоропостижно умер от онкологического заболевания. Это событие становится потрясением для Лэндиса, он проводит 18 месяцев на психиатрическом отделении. Там же он посещает арт-терапию, и после лечения поступает в художественный институт Чикаго, а затем – в Сан-Франциско, где получает необходимый опыт в реставрации. Он даже покупает художественную галерею, не имевшую успеха, и, потеряв деньги, возвращается жить с матерью и отчимом в небольшой город в штате Миссисипи.
В это же время он начинает свою карьеру фальсификатора, используя самые простые материалы из Walmart. В момент дарения картин он часто выдавал себя за священника-иезуита и притворялся исполнителем завещания важного семейного поместья. Он использовал различные псевдонимы, включая Стивена Гардинера, отца Артура Скотта, отца Джеймса Брэнтли и другие.
Однако именно распространение подделок под его собственным именем позволило Мэттью Лейнингеру, регистратору одного из музеев, обнаружить странность. Так, Лейнингер сопоставил очень похожие работы тех же художников от одного и того же «дарителя» в разных музеях и обнаружил, что Лэндис обманул более 60 музеев в 20 американских штатах.
Сам Лэндис говорил, что хотел этим жестом порадовать мать и почтить память отца. Придумав себе этот эго-идеал, он неустанно подтверждал его, как патологический самозванец, что Дойч описывала как попытку самозванцев «устранить трение между патологически преувеличенным идеалом эго и другим».
В перспективе последнего учения Лакана мы можем рассмотреть это означающее «филантроп» (с конструкцией ему сопутствующей) как пришедшее на место Имени-Отца, и оказавшееся стойкой альтернативой. В отличие от логики присутствия и дефицита, Лакан допускает возможность замены Имени-Отца другими формами. Так, он уточняет, что не только Символическое имеет привилегию Имени-Отца, и что именование не обязательно должно быть связано с дырой Символического.Эту роль может взять на себя искусство, наука или даже симптом как то, что Лакан назовет «цветком символического».
В этом Лэндис, с его последовательным использованием означающего, отличен от случаев «как если бы», опирающихся только на образ, но также и от большого количества самозванцев, которым не удается создать устойчивую конструкцию на месте Фo, и вынужденных перебирать идентичности, как Джимми из случая Дойч.
Заключение
Другой для Лэндиса – не тот, от кого он ждет именования, функции, вначале отведенной Лаканом отцу, и впоследствии связанной с самой функцией означивания.Другой был призван зарегистрировать, вписать его имя в историю.
Мэтью Лейнингер, обнаруживший ложь Лэндиса, совершил жест, имеющий вес клинического акта или, по крайней мере, ориентированный уникальностью Лэндиса, и который вызывает наше уважение. Он собрал по возможности все подделки и представил их на выставке. Лэндис был приглашен почетным гостем. Он вспоминал свой визит: «Перед открытием я сильно волновался, потому что не знал, чего ожидать. Но когда я туда приехал, все прошло замечательно. Для меня это был приятный сюрприз».
Подделкам придали новое значение и дали институциональное признание, лишив тем самым статус самозванца и поддельщика его пренебрежительной или криминальной коннотации, позволив сохранить ту творческую субъективность, которую у Лэндиса получилось собрать вокруг его дыры существования. А в 2022 году на Манхэттене прошла его персональная выставка как самостоятельного художника. В интервью The Art Newspaper на вопрос, как для него прошли те 12 лет, между обнаружением обмана и персональной выставкой, Лэндис ответил: «Это было как в голливудском фильме с хорошим концом, потому что мне в голову никогда не приходила идея, что я могу быть художником.» Тем не менее, он им стал.
Мэтью Лейнингер, обнаруживший ложь Лэндиса, совершил жест, имеющий вес клинического акта или, по крайней мере, ориентированный уникальностью Лэндиса, и который вызывает наше уважение. Он собрал по возможности все подделки и представил их на выставке. Лэндис был приглашен почетным гостем. Он вспоминал свой визит: «Перед открытием я сильно волновался, потому что не знал, чего ожидать. Но когда я туда приехал, все прошло замечательно. Для меня это был приятный сюрприз».
Подделкам придали новое значение и дали институциональное признание, лишив тем самым статус самозванца и поддельщика его пренебрежительной или криминальной коннотации, позволив сохранить ту творческую субъективность, которую у Лэндиса получилось собрать вокруг его дыры существования. А в 2022 году на Манхэттене прошла его персональная выставка как самостоятельного художника. В интервью The Art Newspaper на вопрос, как для него прошли те 12 лет, между обнаружением обмана и персональной выставкой, Лэндис ответил: «Это было как в голливудском фильме с хорошим концом, потому что мне в голову никогда не приходила идея, что я могу быть художником.» Тем не менее, он им стал.
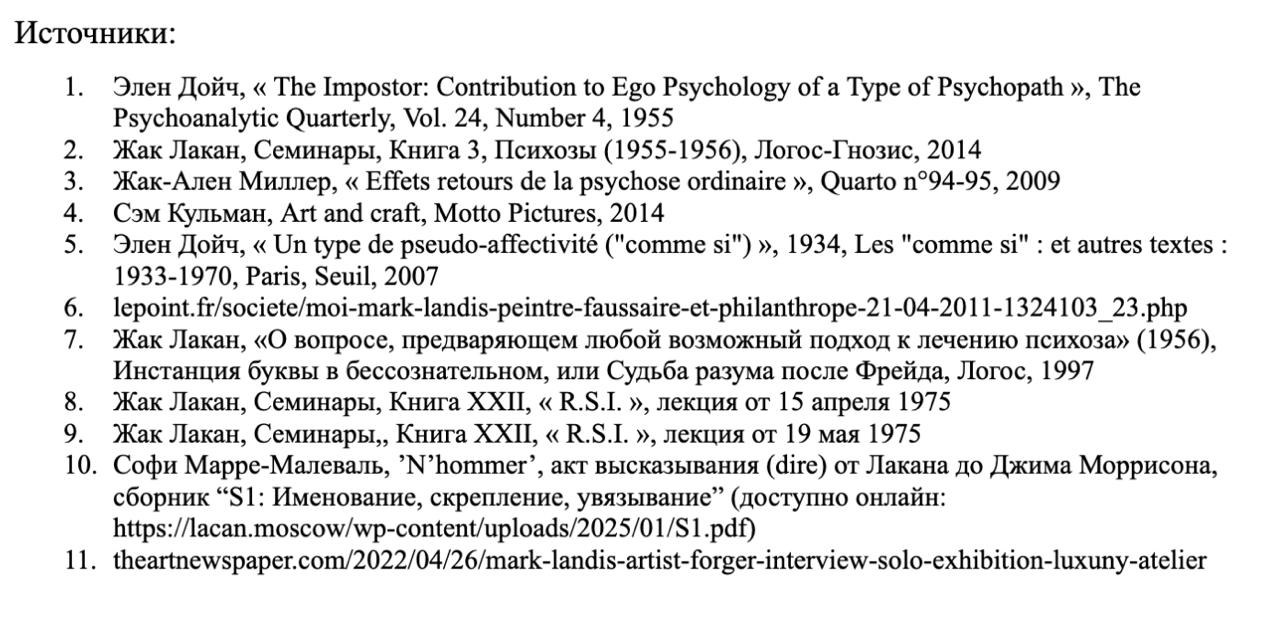
Текст написан в рамках курса Франс Жагю, посвященного в 2024-2025 году разработкам Элен Дойч, на кафедре психоанализа университета Пари 8
